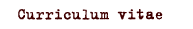
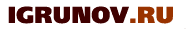 |
|
Возле Дома творчества писателей(к 40-летию поэмы «Я»)
В 1958 году на очередном заседании единственного тогда в Одессе молодежного литобъединения в Доме Пушкина ко мне подошел и познакомился со мной как бы двойник юного Есенина ― москвич Петя Палиевский, сотрудник ИМЛИ (Института мировой литературы им. Горького): мне было 22 года, а ему 26. Справка: Палиевский Петр Васильевич (р. 1932), российский литературовед, доктор филологических наук (1992). Основная сфера интересов: русская и зарубежная литература ХIХ и ХХ вв. ("Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия", компакт-диск. — На базе "Большого энциклопедического словаря", в 2-х томах: М., Большая российская энциклопедия, 1996). В течение нескольких дней мы гуляли с Палиевским по Одессе, увлеченно беседуя на различные интеллектуальные темы и особенно о проблемах литературного творчества: он писал в то время главы в академическое издание «Теории литературы» и мне, начинающему писателю, было особенно интересно поговорить с ним как со специалистом-теоретиком. Кроме того, я не преминул дать ему для прочтения недавно написанный мной и моим другом-одесситом Саней (Семеном) Вайнблатом киносценарий «Солдатский вальс». Прочтя, Палиевский сказал, что сценарий ― заурядный, но зато ему понравилось стихотворение, которое якобы сочиняет герой сценария; это было мое давнее стихотворение: «комнаты комнаты/ лица лица/ длинный длинный/ коридор/ то ли это в жизни/ то ли это снится/ то ли это правда/ то ли это вздор/ лужи лужи/ слякоть слякоть/ ноги сами лезут/ в грязь в грязь/ если это в жизни/ как же тут не плакать/ если это снится/ улыбнусь храбрясь». Напомню читателю, что в те времена подобные стихи клеймились как декадентские; тогда даже лирика должна была быть «идейной». А если кто-нибудь из знаменитостей и решался на публикацию «безыдейной» лирики ― для не знаменитости, как я, это было вообще невозможно, ― то получал жестокую отповедь в партийной печати и включался в черные списки издательств: см, например, постановление ЦК ВКП(б) "О журналах «Звезда» и «Ленинград»" 1946 года, запретившее, в частности, публиковать Ахматову. Мне, конечно, было досадно, что Палиевский по сути забраковал киносценарий; но в то же время это сполна компенсировалось его похвалой в адрес стихотворения. Ободренный, я прочел ему и еще кое-что из моего «декаденства»: ― «Я маленький паучишка/ плетуший свои паутины/ и давят меня ногами/ огромные кретины/ а я пожираю мелочь/ попавшую в паутины/ и вырасти мечтаю/ как огромные кретины». Ему понравилось и это стихотворение ― восьмистишие, построенное на одной рифме «паутины ― кретины». Он отметил музыкальность моих стихов (между прочим, я окончил музыкальную семилетку по классу фортепиано). И особенно его заинтересовала их социальность: ― «Комнаты... лица... длинный коридор...» ― это явно какие-то очень суровые советские учреждения. А «кретины»? Кто эти «огромные кретины»? ― тут он все-таки не решился уточнять, кто же они. ― Интересно, что эти «кретины» давят автора ногами, уничтожают его, ― а потом вдруг оказывается, что и сам автор мечтает стать таким же «кретином»! Ну да, ведь он тоже не промах: «плетет свои паутины»... В общем, твои стихи, ― сказал он мне, ― явно относятся не к социалистическому, а к критическому реализму. И это говорил один из официальных теоретиков именно социалистического реализма. В авторитетности для меня Палиевского сыграло роль и то, что он знал несколько иностранных языков ― все-таки Московский университет посерьезнее Одесского, в котором в то время учился я; и еще Палиевский был, в отличие от меня, «выездным»: побывал в командировках от ИМЛИ в нескольких зарубежных странах, в том числе и в стране моей мечты ― Италии. А в Одессу он приехал как корреспондент журнала «Вопросы литературы» и, к слову сказать, предложил мне стать местным корреспондентом этого журнала (после чего я несколько раз посылал ему информации для журнала о литературной жизни Одессы, ― он передавал их туда, но они так и не были опубликованы). Хотя как диссидентствующий стихотворец я и выработал у себя иммунитет к соцреализму, тем не менее многолетнее давление официального литературоведения приносило свои мерзкие плоды ― в виде неуверенности в себе, мировоззренческих и стилистических метаний, суицидальных настроений... И тут моральная поддержка Палиевского оказалась мне очень кстати, ― подтвердив, что в целом я на правильном пути. Одобрение им моих стихов привело меня через некоторое время к написанию исповедальной лирической поэмы с откровенно неколлективистским названием «Я», ― и первыми фрагментами в поэму стали одобренные им стихи.
А однажды к нам в квартиру ― я жил еще с родителями ― позвонил незнакомый мне молодой человек, который представился Геной Гачевым, коллегой Палиевского по ИМЛИ. Справка: Гачев Георгий Дмитриевич (р. 1929), российский критик, литературовед, философ. Основные работы посвящены теории литературы, национальным художественным образам мира, русской философской мысли. ("Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия"). Как Палиевский, так и Гачев были молодыми людьми с яркой внешностью. Но если Палиевский показался мне похожим на известного поэта Есенина, то Гачев ― на другую известную личность, но уже не автора, а героя произведения: Пьера Безухова, меланхоличного аристократа, несколько грузного, мечтателя и мыслителя. ― Когда приезжаешь надолго в чужой город, ― объяснял Гачев, ― то проходит немало времени, пока обзаведешься знакомыми своего круга. Поэтому я еще в Москве запасся несколькими адресами и рекомендательными письмами, ― и он протянул мне рекомендательное письмо от Палиевского. Так началась моя с ним дружба. В последующие годы получилось так, что с Палиевским я виделся и имел почтово-телефонные контакты считанные разы, ― а Гачев иногда месяцами жил в Одессе, и мы общались более или менее регулярно. Но главное ― с возрастом поменялись наши жизненные установки: Палиевский стал официальным лицом ― заместителем директора ИМЛИ и главным редактором печатного органа института журнала «Контекст»; литературное же творчество мое и Гачева осуществлялось, в основном, «в стол»: как и мне, ему удавалось публиковать процентов 5 того, что он писал. Хотя первый импульс для осознания моей поэтической позиции дал мне Палиевский, впоследствии на меня влияли и другие ― прежде всего Гачев. Он же оказался одним из первых читателей, вернее слушателей моей поэмы, ― когда в 1964 году работа над ней была завершена. Гачев многократно проводил свой летний отпуск в Одессе, в Доме творчества писателей на Даче Ковалевского; я же жил каждое лето в 10-ти минутах ходьбы оттуда, на бабушкиной даче. Как-то на скамейке в парке Дома творчества я и прочел ему поэму. Он похвалил ее, ― и его мнение было для меня не менее ценнным, чем давнее мнение о моих стихах Палиевского; кстати, как и Палиевский, он был одним из авторов академической «Теории литературы», был полиглотом и «выездным». Позже Семен Вайнблат, уже известный в Одессе поэт, так отмечал приоритет моей поэмы: "В то время Евгений Евтушенко писал вполне лояльные поэмы ("Станция Зима" — 1955, "Братская ГЭС" — 1965); не было еще нелояльных поэм Иосифа Бродского ("Речь о пролитом молоке" — 1967, "Горбунов и Горчаков" — 1968), Александра Галича («Размышление о бегунах на длинные дистанции» — 1969, «Вечерние прогулки» — 1971) и др. Таким образом, "Я" — была первой диссидентской, несоцреалистической поэмой в Советском Союзе". Но вернемся к Гачеву. Дело в том, что «выездным» он был лишь до известного процесса Синявского и Даниэля. Справка: Синявского и Даниэля процесс, судебный процесс в Москве в 1966. Писатели А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль на основании факта публикации на Западе их сатирических произведений были обвинены в антисоветской деятельности и приговорены к заключению в исправительно-трудовой колонии строгого режима (соответственно на 7 и 5 лет). ("Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия", компакт-диск). Синявский тоже был сотрудником ИМЛИ, ― но с ним лично я знаком не был, а знал о нем из печати и от Гачева. При обычной в советское время «проработке» Синявского по месту работы ― так сказать, в помощь тоталитарной прокуратуре ― Гачев позволил себе выступить с сомнениями в юридической правомочности его осуждения коллективом института до решения суда: см. Гачев. Г., «Андрей Синявский ― Абрам Терц и их(ний) роман "Спокойной ночи" (исповесть)» ― М., Вузовская книга, 2000. С этого момента Гачева, хоть и не уволили из института, но совсем перестали печатать и он стал «невыездным», как и я. А позже он дал мне прочесть самиздатовскую речь Синявского на суде ― насколько помнится, яркую антисоветскую публицистику. Не удивительно, что, когда через три десятка лет, во время горбачевской Перестройки, я оказался в Нью-Йорке и у меня впервые появилась возможность опубликовать, хотя и микротиражом в 100 экземпляров, мои стихи, ― то с просьбой написать предисловие я обратился письмом именно к Гачеву, в Москву. И он, к этому времени доктор филологических наук, сразу же выполнил эту просьбу ― и прислал мне предисловие («Жертвоприношение, стихи 50-90-х годов». ― Нью-Йорк, «Lifebelt», 1994, стр. 3-19). Надо сказать, что моя поэтическая судьба складывалась в каком-то смысле парадоксально. С одной стороны, уже в юности моими главными «референтами» стали двое ведущих советских специалистов по теории литературы, что было несомненной удачей; с другой стороны, отвергнув в свое время соцреализм и из-за этого не печатаясь, я оказался как бы за бортом современной русской поэзии: до сих пор о моей, первой в истории Советского Союза диссидентской поэме «Я» знают немногие. Мало кому известно и остальное мое творчество: стихи, проза, философская публицистика (см. вебсайт http://edvig.synnegoria.com). Эта парадоксальность сопутствовала мне всю жизнь, начиная, может быть, с того факта, что я написал тысячи страниц стихов и прозы на бабушкиной даче, возле Дома творчества писателей, ― а в глазах публики не я, а они, в большинстве своем соцреалистические графоманы, считались писателями (в 1981 году как редактор книг в научном издательстве я был принят в члены Союза журналистов СССР, но вот более «привилегированный» Союз писателей остался для меня ― как и для Гачева ― недоступен). Собственно, я не только жил и писал возле Дома творчества, ― но и даже внутри Дома творчества прочел свою диссидентскую поэму Гачеву. Когда дачники из окружающих дач шли на пляж Дома творчества ― и часто я шел с ними, ― то принято было полуиронически говорить: ― Ну, пошли к пысьмэнныкам! (Украинское ― писателям). И недаром Марк Поповский, с которым я подружился уже в Нью-Йорке, ― сначала член Союза писателей СССР, а потом диссидент и эмигрант, ― неоднократно говорил: ― Ненавижу слово «писатель»!.. Вообще, когда пишешь о литераторах, то нет возможности пересказывать все опубликованное ими, ― а ведь не только встречи и разговоры с Палиевским и Гачевым, но и опубликованное ими влияло на меня. Поэтому данное мое воспоминание может понять в полную меру только тот читатель, который знаком с их творчеством. Конечно, теория литературы ― вовсе не инструкция по созданию поэзии или прозы: искусство изначально иррационально. И я нашел свою поэтическую позицию до знакомства с этими двумя теоретиками литературы, то есть без их помощи. Однако они все же помогли мне в очень важном ― помогли увереннее утвердиться в найденной мной поэтической позиции. Главное, что мне дало общение с ними, ― не глубокие интеллектуальные разговоры о природе поэзии, хотя это и было весьма поучительно, а сам факт, что эти незаурядные эрудиты и знатоки мировой литературы положительно оценили мои первые опыты.
...Когда десять лет назад я издал, наконец, свою первую книгу, в которую и вошла ― прежде лишь самизатовская ― поэма «Я», то в комментарии к поэме («Жертвоприношение, стихи 50-90-х годов», стр. 203-212) я не мог тогда рассказать обо всем, что казалось существенным для раскрытия темы, ― чтобы не навредить друзьям, оставшимся в СССР-СНГ. И вот одну из тех недосказанностей я досказал теперь ― в виде данного небольшого воспоминания.
Эдвиг Арзунян 28 октября 2004 г. Eduard Arzunyan 20 Seaman Ave. Apt. 5I New York, NY 10034 (212) 567-0534 Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
||