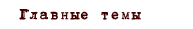
 |
|
Рассказывает Вячеслав Бахмин[1] О роли Самиздата в судьбе человека
ПЕРВЫЕ САМИЗДАТСКИЕ РАДОСТИ - Как и когда Вы впервые столкнулись с самиздатом? - Я очень хорошо помню это, потому что первоначально моё отношение к самиздату было очень недоверчивым: я был всё-таки человеком, воспитанным комсомолом - с правильных советских позиций. Это были 63-й, 64-й, 65-й годы. Я в то время учился в школе-интернате № 18 при МГУ (в Колмогоровском интернате). По-моему, в 65-м году мне в руки попала ходившая тогда среди наших школьников запись суда над Бродским, которую сделала Вигдорова. Когда я эту запись прочитал, я, конечно, не поверил, что всё написанное там - правда. Я думал, что это - какая-то странная фальшивка, потому что вести себя так, как там показано, советский судья не может, и задавать такие глупые вопросы для судьи совершенно невозможно. Именно поэтому к этому первому попавшему мне самиздатскому документу я отнёсся очень скептически. Потом, когда я закончил интернат и поступил в Физико-технический институт, то там стал встречать довольно много самиздата. Но первые самиздатские документы, с которыми я там познакомился, носили характер не политический, а, скорее, исторический. Это были документы, которые ранее публиковались на Западе, но в СССР были недоступны - типа письма Раскольникова или письма Ленина съезду партии. С широким потоком самиздата я встретился начиная с года 67-го или 68-го, когда вошёл в круг диссидентов и стал знаком практически со всеми известными в то время правозащитными группами и людьми. В Физтехе была группа ребят, которая имела некоторые контакты с самиздатом ещё до знакомства со мной. Это - Валера Сендеров, с которым мы учились, кажется, даже на одном курсе, и ещё пара ребят, которые давали нам разные перепечатанные материалы и которых потом втихую выгнали из Физтеха. Кстати, именно в то время появился так называемый литературный самиздат... - Уточните, в какое - “в то время”. - Это - 67-й, 68-й годы. Тогда я познакомился со многими стихами Мандельштама, прозой Цветаевой, “Реквиемом” Ахматовой и всем тем литературным самиздатом, который тогда был довольно широко распространён. Это время - 67-й год, начало 68-го - было очень либеральным, хотя это была эпоха после суда над Синявским и Даниэлем и введения в 66-м году статьей 190-прим и 190-3. Тем не менее, в институте ещё сохранялась либеральная атмосфера клубов, встреч с интересными людьми. У нас на литературном клубе выступал, например, Фазиль Искандер, который читал ещё не напечатанные чегемские рассказы. И Физтех стал для меня не только институтом, в которым я учился, но и университетом, в котором происходило становление меня как правозащитника - ещё до того, как я попал в группу известных правозащитников. В частности, бывшие физтехи создали на нашем факультете студенческий театр - если и не диссидентского, то бунтарского характера. Там мы поставили, например, пьесу “На плоту” Мрожека - автора, пьесы которого тогда достать было нельзя. Руководителем нашего театра был Юра Костоглодов, который сначала закончил Физтех, а потом поступил на драматургический факультет Литературного института. А начали мы с того, что решили поставить свой собственный спектакль. Мы вместе написали сценарий пьесы “Убили поэму”, суть который была в том, чтобы просмотреть историю развития российской (советской) поэзии от Серебряного века до наших дней, 60-х годов. Серебряный век был представлен Ахматовой, Гумилёвым, Мандельштамом, Цветаевой, которые было полузапрещены в то время (пьесу мы ставили на основе литературного самиздата), а наше время - цитатами из книжки “Поэзия рабочих рук”, в которой представители рабочего класса воспевали ударный труд. Зачитывали мы и постановление о журналах “Звезда” и Ленинград”, которое хотя и было опубликовано, но находились в “серой зоне”. Через всю пьесу проходил человек в сером френче, игравший роль Цензора, который запрещал одни стихи и разрешал другие. Спектакль был связан идеей о том, что цензура губительна для творчества. Этот спектакль нам удалось только один раз показать и затем провести его обсуждение. Обсуждение закончилось достаточно резкими и откровенными заявлениями оппозиционно настроенных студентов. Тогда как раз я познакомился с одним из них - Анатолием Щаранским - с которым учился на одном курсе. После этого первого показа и обсуждения решением парткома спектакль был запрещён. Споры, возникавшие в ходе подготовки пьесы, были для меня довольно болезненными, потому что способствовали ломке моего мировоззрения - мировоззрения человека, верившего в идеалы социализма и гордившегося тем, что он живёт в такой великой стране. Кроме того, во время работы над спектаклем, которая продолжалась около полугода, мы познакомились с огромным количеством документов, не распространённых широко. Тогда-то у меня и появился интерес к партийным документам 20-х и 30-х годов, и я стал собирать, например, стенограммы ранних съездов. Сам я состоял тогда в идеологической комиссии комитета комсомола Физтеха, а будущий член Московской хельсинкской группы Юра Ярым-Агаев входил чуть ли не в сам комитет комсомола. Мы пытались попасть в комсомольские структуры именно для того, чтобы изнутри узнать, что там происходит. (Были такими своего рода засланными казачками.) Когда я потом вошёл в круг диссидентов (через Юлика Кима, который преподавал у нас в интернате, через его жену Ирину Якир) и попал в самый центр правозащитного движения... - Не забывайте про даты... - Это - всё те же даты: 67-й, 68-й... Тогда же я впервые познакомился с “Хроникой текущих событий”, первый номер которой вышел в марте 68-го года. (Первым ко мне попал только что тогда опубликованный 3-й номер.) - Попал через кого именно? - Через тот же круг - через Ирину Якир, через Юлика, которые были причастны к её изданию. Ира даже давала мне небольшие задания: посмотреть какую-то рукопись (например, “Социализм и революция” Виталия Помозова из Нижнего Новгорода) и составить для “Хроники...” краткую рецензию. Такие мелкие вещи для “Хроники...” мы в 68-м году делали. - “Мы” - это кто? - У нас была группа, в которую кроме меня входили Ирина Каплун из университета, Оля Иофе, моя нынешняя жена Татьяна Хромова, Люда Кардасевич. Мы были студентами младших курсов, тусовавшихся вокруг Ирины Якир и Юлика. Серьезным этапом для меня стал 68-й год и ввод наших войск в Чехословакию. Мы все внимательно следили за тем, что там происходит. Из самиздата к нам попали “2000 слов” и другие материалы, связанные с ситуацией в Чехословакии. Мы и сами переводили тексты из ещё доступных в советских киосках чехословацких газет, хотя доставать их было уже довольно трудно. (Некоторые из нас специально для этого учили чешский язык.) При этом в Физтехе регулярно вывешивались переведённые вырезки из этих газет. - Вывешивались кем, с какой целью и на каких основаниях? - В Физтехе учились социально активные студенты. У нас были свои клубы, в рамках которых тот же Юра Костоглодов, знавший чешский язык, эти тексты переводил, и мы их вывешивали на доске объявлений на нашем факультете - вместе с какими-то другими объявлениями. - А каково было отношение к этому администрации? - Абсолютно спокойное, потому что Чехословакия - социалистическая страна. Об этом ведь писали и в наших газетах, хотя не так подробно и откровенно. Так что до поры, до времени на это смотрели сквозь пальцы. В 68-м году (не помню только, ДО или ПОСЛЕ) к нам стали попадать и более серьёзные (самиздатские) тексты - книга Джиласа “Новый класс”, книги Авторханова (“Технология власти”)... Мы сами делали себе с них фотокопии, которые печатали с плёнок. Помню один смешной случай. Когда я получил очередную порцию фотографий книги Джиласа... - Всё из тех же источников? - Да. Гена Ноткин, тоже бывший физтеховец и наш друг, печатал эти фотки ночью у себя на квартире. ...Я собрал полный экземпляр книги Джиласа “Новый класс”, положил в сумочку и пошёл в Физтех ужинать. После ужина я пошёл к себе в общежитие и только утром вспомнил, что я оставил пакет с фотографиями в столовой. - Ту сумочку? - Ну да - такой пластиковый пакет, в котором лежали фотографии. - В конце 60-х ещё не было пластиковых пакетов. - Ну что-то вроде хозяйственной сумки. Утром я в ужасе вскочил и побежал в столовую, где перед началом рабочего дня уже убирала уборщица. Вижу, что мои фотографии лежат, раскиданные на столах, и рядом - сумка. Я быстренько всё собрал, сложил и утащил. Я до сих пор не знаю, почему тогда всё обошлось. Видимо, никто просто в текст не вчитался или подумал, что это - материалы для занятий по истории. Перед вводом войск в 68-м году я был в студенческом отряде, который до августа где-то под Загорском строил, кажется, коровник. У меня с собой был приёмничек, и по ночам я слушал “Голос Америки”, а утром делился услышанным со студентами. При этом у нас возникали жаркие споры, потому что среди нас были и комсомольцы, которые отстаивали официальную позицию советского правительства и говорили, что “если мы это не прекратим, то США, чьи войска уже стоят на границе с ФРГ, завоюют Чехословакию”. - “Не прекратим” что? - Такое развитие событий - в ненужном для нас русле. - То есть это ещё до вторжения? - До вторжения, да. Я в этих спорах отстаивал широкий демократический взгляд на события в Чехословакии, говоря, что это - единственный шанс сделать социализм нормальным, то есть таким, каким его в своё время задумывал Ленин, а не таким, каким он получился после предательства Сталина. Вернулся я из Загорска примерно 20 августа. Утром, идя вместе с Юрой Костоглодовым по Пушкинской площади, мы увидели, как люди толпятся вокруг газет. (А газеты тогда вывешивали, чтобы их можно было читать.) Мы подошли и увидели сообщение ТАСС о том, что в Прагу введены войска. Ощущение было, конечно, ужасное. До этого были какие-то надежды, во что-то верилось, но вдруг мы увидели, как грубой силой всё было подавлено. Кстати, ещё до этого было известное письмо Анатолия Марченко, в котором он предупреждал о том, что советские войска введут в Прагу. Это было за месяц до Августа 68-го, и именно это письмо забыла в такси Ирина Белгородская. - Вы упомянули это письмо в связи с тем, что Вам оно тоже было известно? - Да, я его тоже читал, но не уверен, что это было до ввода войск. Потому что месяц до ввода войск я был в студенческом отряде, куда самиздат не поступал. В первый день, как ввели войска, мы с Юркой ходили по центру Москвы и гадали: ну хоть кто-нибудь будет против этого как-то протестовать? Пошли к посольству Чехословакии на [улице] Фучика. Пустота. И только милицейский УАЗик барражирует вокруг посольства. - УАЗики появились чуть позже, а тогда были ГАЗики. - Может и ГАЗик; я в марках мало что понимаю, но машина была милицейская. Мы поняли, что народ безмолвствует, и никто ни на что не реагирует. Только потом мы узнали, что 25-го была демонстрация. Если бы мы в тот момент знали, что будет демонстрация, то, конечно, к ней бы присоединились. Потому что ощущение было такое, что срочно необходимо что-то делать. Только не знали, что. Вообще, для меня события 68-го года ознаменовали переход к пониманию того, что социализм в таком его виде вряд ли реформируем. События в Чехословакии показали, что даже при всех самых благоприятных условиях трансформировать социализм невозможно - не дадут.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ... В августе 69-го года я ездил в Таджикистан, где в Нуреке жила моя мама. А перед тем, как туда поехать, я дал одному из своих друзей в Твери Виктору Кипровскому самиздатскую литературу. В частности, я дал ему почитать книжку Авторханова “Технология власти”, с которой кто-то на своей работе сделал копию на ксероксе и перепёл. - Вы уверены, что это был уже именно ксерокс? - Думаю, что да. Да. Да. Но это могло быть и что-то типа ротапринта или ризографа. Может быть, это был и не ксерокс, но копия была на бумаге. То есть это, скорее всего, был ризограф или что-то вроде того. Потому что чуть позже я получал через Ковалёва копии “Архипелага ГУЛАГ”, сделанные уже почти фабричным способом. ...В конце августа, перед началом учебного года, я вернулся, потому что мне надо было ехать в Физтех, где мне предстоял четвёртый курс. А другой наш общий друг (по-моему, Володя Соловьёв) говорит мне: “С Витькой какие-то проблемы, - его вызывали в КГБ”. - Это в Твери? - Да, в Твери. Я нахожу этого Витю и говорю: “Отдай мне книжку Авторханова”. Он отвечает: “Сейчас у меня её нет - я дал почитать. Завтра принесу”. Я понял, что дело плохо. Раз он юлит и не отдаёт книжку, значит, что её уже, видимо, забрали. На следующий день мне надо было уезжать в Москву, и поэтому я накануне поздно вечером связываюсь с Володей Тишининым и прошу его отвезти к себе чемодан с самиздатом (разным - литературным, политическим, прочим). Мы встретились с ним в центре, я передал чемодан, и он отвёз его к себе. Я вернулся, лёг спать, а утром - звонок в дверь. Входят люди. Молодой человек показывает книжечку сотрудника КГБ и говорит: “Нам бы хотелось с Вами побеседовать. Давайте пройдём”. А у меня электричка в девять утра. (Уже 1 сентября, и я должен успеть на занятия.) Я говорю: “Как же? 1 сентября. Мне надо успеть на занятия”. - “Ну какие занятия? Нам надо с Вами поговорить”. И отвезли меня в Тверское КГБ. А у меня в кармане брюк лежат листовки. Причём не мои, а отпечатанные типографским способом листовки итальянцев в защиту Гинзбурга, Галанскова и других, которые разбрасывали в ГУМе. - А как они к Вам попали-то? - По пути из Таджикистана в Тверь я остановился в Москве, зашёл к Пете Якиру и там встретился с двумя итальянцами, которых Петя инструктировал насчёт разбрасывания листовок где-то в ГУМе. Два экземплярчика этих листовок я у них взял, и когда меня везли в КГБ, вспомнил, что они у меня с собой. Меня привозят и говорят: “Расскажите нам о Ваших контактах в Москве. Знаете ли Вы про самиздат? Какие материалы у Вас есть?” Я говорю: “Понятия не имею и ничего не знаю”. Мне показывают книжечку Авторханова и говорят: “Вот показания Виктора Кипровского, который сказал, что от Вас её получил”. Я говорю: “Возможно, что и от меня - я не помню. (Мне и самому кто-то дал её почитать)”. - “А Вы знаете Юлия Кима, Ирину Якир?” Говорю: “Знаком: Юлик у меня был преподавателем в школе”. В общем, ушёл в глухую несознанку, хотя и разговаривал с ними вполне вежливо. Потихонечку мне начинают угрожать: “Ну Вы понимаете, что всё это - антисоветская агитация и пропаганда, что эти документы тянут на серьёзную статью, что Физтех - это режимный институт (а у нас у всех была вторая форма допуска, - ВБ) и что Вам учиться там не придётся?” Вызвали моего отца, который работал мастером на заводе. Он приехал - бледный. Нас оставили вдвоём, и он стал меня уговаривать: “Ты уж им всё расскажи...” Я говорю: “Слушай, возьми вот эти вот листовки и, когда выйдешь, разорви и выбрось”. Он говорит: “Ну ладно, ладно”. Отдал я ему эти листовки, и он ушёл. После этого мне говорят: “Раз Вы не хотите нам все рассказать, то давайте поедем к Вам домой и проведём там обыск, - посмотрим, что у Вас есть”. А я честно говорю (потому что накануне отвёз чемодан): “Да ничего там нет”. Правда, чемодан лежал в шкафу, и когда я его оттуда вытащил, то образовалось свободное пространство, так что было видно, что тут лежал чемодан. Кроме того, у меня оставалась папочка с литературным самиздатом типа “Реквиема” Ахматовой, цветаевской прозы и чего-то ещё. “Ну, - думаю, - отдам им это - пусть успокоятся.” Приходим. Я беру эту папочку (которую я оставил потому, что думал, что она опасности не представляет), а первое, что лежит в ней сверху - список всей самиздатской литературы, которая была в чемодане. Открыв папку и увидев это, я попросился в туалет. Взял незаметно с собой эту бумажку и там её разорвал и выбросил. Остальные материалы они, конечно, переписали и забрали. Поскольку там ничего опасного не было, меня отпустили. Так для меня начался новый учебный год. Я уже понимал, что в Физтехе мне больше не учиться, и ГБ мне всё перекроет. Первые же дни учёбы это подтвердили. На четвёртом курсе у нас начиналась практика, которую я должен был проходить в химическом “ящике”. Но мне сказали: “Ой, к сожалению, с этой практикой пока не получается. Давайте поищем что-нибудь другое”. И предложили проходить практику в Институте проблем механики, где допуск был не нужен. Ясно, что надо мной уже что-то висело. И я понимал, что доучиться мне не дадут. Поэтому перестал ходит на занятия, перестал конспектировать лекции. Какой смысл? Я понял, что к Новому году меня должны оттуда выкинуть. Дальше события развивались по нарастающей, потому что мы почувствовали, что больше молчать не можем, и надо что-то говорить, предпринимать какие-то действия. И к 69-му году наша студенческая группа созрела для таких действий. В 69-м году наступало 90-летие со дня рождения Сталина. Тогда в журнале “Коммунист” была опубликована статья, мягко реабилитирующая Сталина. В самиздате в это же время распространялось известное письмо Григоренко “Сокрытие исторической правды - преступление перед народом”, в котором он рассказывал о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Мы решили подготовить к этой дате листовки. Никому ничего не говоря, наша группа в ночь с 7-го на 8-е ноября, когда родители одной из наших девушек - Ирины Каплун - ушли в гости, собралась в её квартире на Ленинском проспекте и всю ночь на машинке “Москва” печатала листовки. Поскольку мы были большими конспираторами, то печатали в перчатках - чтобы не оставались отпечатки на клавишах. Напечатали 220 экземпляров. Раскидывать их решили перед днём рождения Сталина 19 декабря... - Это, по-моему, у Брежнева - 19 декабря, а у Сталина - 21-го. - Или 21-го. В общем, в начале 20-х чисел декабря. Но до того их надо было куда-то спрятать. Поскольку я сам - из Твери, то у меня был друг, у которого я и решил спрятать эти листовки. - Потому что он - москвич? - Он - не москвич, он - из Твери. - А почему у него? У него что, было?.. - Потому что мы могли бы спрятать у одного из наших друзей, но этот круг мы считали потенциально опасным - в том смысле, что мы все друг друга знали. А этот человек остальным был не известен, - он был известен только мне. - А у него что - было своё жильё в Москве? - В Твери. В Твери было жильё. Я его попросил приехать в Москву и передал ему листовки, а он увёз их в Тверь. (Это был упоминавшийся уже Володя Тишинин.) На протяжении всего ноября мы стали замечать за нами что-то вроде слежки. Вокруг нас стали ходить какие-то подозрительные люди. В ноябре же я впервые был на суде над правозащитниками. - Почему Вам вдруг предложили там поприсутствовать? И почему Вы согласились? - Полететь в Харьков должна была Ирина Якир. Ну, и чтобы она не летела одна, чтобы был свидетель, если что случится, с ней полетел я. Так что, скорее, я сам предложил себя в сопровождающие. Мы с Ирой полетели в Харьков, где проходил суд над Алтуняном. Суд был якобы открытый, но когда мы пришли в зал, все места там оказались заняты. И тогда народ говорит: “А давайте возьмём стулья из коридора”. - Какой народ? - Наш - харьковчане, Ирка, я. Человек восемь нас было. Мы взяли несколько стульев, поставили в проходе и сели. Тут я вижу, что какой-то мужик из середины ряда встал и ушёл. Ну, я взял и сел на его место. Когда суд начался, судья говорит: “Почему зал переполнен? Пройти даже нельзя. Все лишние стулья убрать!” И всех, кто сидел на этих принесенных стульях, выгнали. Один я остался. Сижу среди людей, которые читают “Советский спорт”, обсуждают последний футбольный матч. Я с ними поддерживаю разговор, а сам думаю: “Только бы меня не вычислили”. Но всё прошло нормально. Так я и просидел весь процесс, незаметно конспектируя всё, что происходит. В перерыве я выходил из зала. Поскольку уже знали, что я из зала, то меня пускали обратно. - Что значит “пускали”? - Там у входа стояли два человека, и я им говорил: “Я выйду покурить”. - А кстати, обязательно было выходить в перерыве? - Нет, не обязательно. Некоторые выходили, некоторые сидели. - То есть Вас заставляла так рисковать только потребность в никотине? - Главное, что я так передавал Ирке записи. Суд шёл до вечера. Генрих получил тогда, по-моему, три года. Для меня большой школой стало знакомство с тем, как проходят такие процессы - что говорят адвокаты, что говорит подсудимый, что говорит судья. Это всё очень наглядно показывало, кто чего стоит. После суда мы все собрались дома у Вадика Недоборы и стали приводить в порядок мои записи - составлять для “Хроники...” полный текст отчёта. Вдруг слышим, как с улицы кто-то кричит его жене: “Соня! Соня!” Она выглянула из окна, а ей показывают жестами на плечи: к вам идут люди в погонах. И тут - звонок в дверь. Входят люди из прокуратуры и милиции: “Почему в квартире посторонние? Документы!” Мне удалось какую-то часть записей спрятать, но основные записи они при обыске забрали. - То есть это была не просто проверка паспортного режима, а настоящий обыск? - Да, обыск был. - А гэбисты при этом присутствовали? - А кто же их знает. - А было постановление о производстве обыска? - Да, документы все были. - Обыск производился от имени прокуратуры? - Да, по 190-й [статье]. 190-я - это прокуратура. Нас троих иногородних - меня, Лёню Плюща и Ирку Якир - отвезли в милицию и в прокуратуру. В милиции стали допрашивать: зачем вы приехали, что и как? При этом произошёл смешной случай. В сумке у Лёни Плюща была книжка “Национализм” Рабиндраната Тагора. Кто такой Рабиндранат Тагор, они понятия не имели, и книжку конфисковали. (Поскольку украинский национализм считался серьёзной угрозой.) - А книжка была выпущена?.. - Книжка была выпущена нормальным типографским способом в ранне-советские времена. Забрали в милицию и хозяина квартиры. Потом его отпустили, сделав официальное предупреждение, но, как я узнал позже, через три дня его арестовали, и он получил свои три года. ...Поздно ночью нас отпустили, и утром мы улетели. Даже, может быть, Ирка осталась, а я улетел. Было это где-то в конце ноября. Когда я прилетел, я через несколько дней пошёл на квартиру Юлика и Ирки на Рязанском проспекте, где у нас с Юликом состоялся серьёзный разговор по поводу наших листовок. Дело в том, что у нас были колоссальные планы разбрасывания листовок. Была придумана специальная схема – где разбрасывать, придумана специальная машинка для разбрасывания. Это - коробка из-под обуви, где на пружинке крепится подставка, на которую сверху кладутся листовки. Мы идём на второй этаж ГУМа, ставим там её на перила и уходим. А через какое-то время срабатывает пружинка, крышка открывается и листовки разбрасываются и летят по всему ГУМу. (Похожую схему описал мне и П. Старчик (http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-dissid/smysl/1058065392/1138049111.html), - АП.) - Значит, там использовался какой-то замедлитель - как во взрывателях? - Да. Вторая идея у нас была - использовать электричку, которая проходит через Каланчёвку над Площадью трёх вокзалов, разбросав листовки из последнего вагона. Юлик в последний момент убедил меня в том, что листовки, всё-таки, абсолютно бесполезная вещь. Их сдадут в КГБ или в лучшем случае кто-то куда-то спрячет, и толку от этого не будет. А посадят нас за это на 100%. Поэтому мы договорились с ним о том, что я поговорю с ребятами, и мы, может быть, откажемся от того, чтобы разбрасывать эти листовки, потому что это непродуктивно.
...И НАКАЗАНИЕ Я вышел от Юлика, а по пути к метро ко мне подошли двое молодых людей: “Давайте проедемте с нами”. И посадили в машину. Было примерно десять вечера. У меня с собой была сумка с самиздатом и остатки спасённых в Харькове записей процесса. Меня привезли на Малую Лубянку и провели в кабинет со скрипящими паркетными полами. Там меня встретил такой радостный и весёлый мужик: “Давайте знакомиться. Меня зовут Зайцев Юрий Анатольевич. Я - майор, следователь по особо важным делам Управления Комитета государственной безопасности по Москве и Московской области. Давайте посмотрим, что у Вас в Вашем портфельчике”. Я был настроен очень воинственно и говорю: “А у Вас есть постановление на обыск? На каком основании Вы будете?..” Он засмеялся и говорит: “Ну что ты? Мы тебя задерживаем. Теперь тебе тюрьма - родной дом. Так что ты не волнуйся”. Так весело-весело говорит. Забрали портфельчик и часа четыре переписывали, что у меня там. (Я любил собирать всякие документы, и там их было огромное количество.) Примерно в два часа ночи меня отвезли в Лефортово. Это было 30 ноября. На следующий день в общежитии Физтеха прошли обыски, которые привели в шок ректора и остальное руководство закрытого ВУЗа. Конечно, о нём мгновенно узнали и все студенты. - Уточните, где конкретно прошёл обыск. - Обыск - у меня в комнате общежития. При этом забрали в этой комнате почти всё. - Забрали всё в комнате у кого? - У меня. Я жил в комнате вдвоём с сокурсником, и всё, что могло вызвать хоть какое-то подозрение, всё это забрали. - Значит, не все вообще вещи... - Нет, не все. Я имею в виду: всё, что могло... - ...Вызвать подозрение. - Когда я потом читал протокол этого обыска, в нём были такие пункты, как “крышка от чайника (зелёная)”. Или “бутылочка с красной жидкостью с надписью “чернила””. Но самый страшный пункт - “шрифт”. Пошли слухи: у Бахмина взяли шрифт. А шрифт, это значит типография. А мы просто хотели заменить литеры в нашей машинке “Москва”, и я купил набор букв для того, чтобы их перепаять. Это называлось: “забрали шрифт”. Но какие подозрения могла вызвать крышка от чайника? Может быть, подозрительным было то, что самого чайника не было, а была только крышка? - Значит, Вашего соседа и других Ваших товарищей обыск не затронул? - Нет. В комнате осмотрели всё, потому что в ней не было границы: вот - моё, вот - его. Но такие же обыски прошли и у всех наших девушек... - В общежитии? - Нет, дома - у Татьяны Хромовой, у Лиды Кордасевич, у Иры Каплун, у Ольги Иофе и так далее. У Ольги и у Ирки нашли наши листовки и какой-то самиздат, и их тоже арестовали. То есть арестовали нас троих. Сначала меня, а их - на следующий день, 1 декабря. А Татьяна накануне всё отнесла к своей знакомой, и у неё ничего не нашли. Началось следствие, которое длилось девять месяцев. Обвиняли меня (по статье 70-й) в двух вещах. Первое - изготовлении листовок, которое потом, однако, из обвинения вычеркнули, потому что в этом ничего антисоветского не было. Были лишь материалы против Сталина, а судить студентов за материалы против Сталина было довольно стрёмно. Второе - хранение антисоветской литературы с целью распространения. Выяснилось, что чемодан, который я отдал своему другу, находится у них, и что формально дело начинается с заявления моего друга. - Того тверского, которому Вы отдали этот чемодан? - Да - Володи Тишинина. Потом я реконструировал события и понял, каким образом это произошло. Это - тоже смешной случай, показывающий всю нашу наивность тех времён. С этим парнем мы были знакомы по театральной студии. Когда у меня в году 66-м или 67-м стали появляться какие-то [самиздатские] документы, я с ним ими делился. Наверное, в 67-м году его забрали в армию. Когда он уходил в армию, мы договорились, что будем с ним переписываться, и я буду держать его в курсе того, что происходит в стране и мире. А писать будем с использованием шифра. Шифр я взял из книги Жюля Верна “Матиас Шандор”. Известный шифр: лист, расчерченный на квадратики, в котором ряд клеточек вырезан. Накладывая этот шаблон на чистый лист можно писать и переворачивать, писать и переворачивать... Получается квадрат букв, в которых ничего не поймёшь, пока не наложишь соответствующую матрицу. Пару таких писем я ему послал. А служил он на Северном флоте, на атомной подводной лодке. Я представляю, как радовалась его начальство, перехватывая такие шифрованные письма. А мне-то и в голову не приходило, что почту у нас будут проверять. У меня такое ощущение, что как раз тогда его и взяли за одно место и сказали: “Будешь с нами”. Кончилось всё тем, что он фактически отдал все листовки и книжки. С этого наше дело формально и началось. Шум от него получился довольно большой, поскольку арест трёх студентов за листовки против Сталина имел некрасивый резонанс для КГБ. А ничего другого на нас они получить не могли. Кроме, конечно, хранения литературы. Тут, однако, было невозможно доказать, что она - “с целью распространения”, потому что там всё по одному экземпляру было. Поэтому, как я понимаю, они решили это дело спустить на тормозах. Позиция нас троих была следующая: мы рассказывали, как собирались и печатали листовки. При этом мы не каялись, а говорили, что считаем это правильным, потому что Сталин - такой-то и такой-то. Полно документов, которые это подтверждают, и мы хотели, чтобы люди это знали. Так что ничего зазорного мы не делали. - У вас троих была возможность согласовать свою позицию? - Так получилось, что мы одновременно стали вести себя таким образом. - То есть всё-таки не было договорённости? - Нет, эта позиция предварительно не была согласована. Просто так получилось - может быть, в разной степени. С другой стороны, мы, конечно, не всё рассказывали. Мы сказали: “То, что касается других лиц, мы не будем рассказывать - откуда мы взяли книжку и у кого что храниться”. Например, у меня долгое время пытались добиться ответа на вопрос, где машинка (та, на которой мы печатали листовки, не делая отпечатков). А я её отдал своему другу Юре Костоглодову и попросил её сохранить. - А изначально чья это была машинка? (Разве не той девушки, на квартире которой на Ленинском вы печатали листовки?) - Нет, эту машинку купил кто-то из наших ребят. (Может быть, это я её достал.) После того, как мы листовки отпечатали, я решил её спрятать и отдал Юре Костоглодову. Меня Зайцев просто умолял: “Ну ничего Вам не будет. А нам просто нужно для дела, чтобы в нём было написало, что у нас есть орудие преступления. Вы только скажите, Вы просто напишите записочку, чтобы принесли. И всё. Ничего за это не будет”. Но это было для меня каким-то рубежом, и я говорил: “Нет, я не могу”. Так он от меня этого и не добился. Надо сказать, что он со мной жутко подружился. Мы с ним очень много спорили о Чехословакии, о фашизме и об истории страны. Вообще, он - странный человек. Встретившись с ним, я понял, что могут быть внутренне честные люди, позиция которых абсолютно для меня неприемлема. Она может быть фашистская, какая-то другая античеловеческая, но внутри себя у таких людей всё в порядке, все логично, поскольку у них - другие ценности. Он по природе своей - антисемит. Он говорил: “Как русский парень оказался в компании с двумя еврейками? Это они тебя в это втянули - нормального парня с хорошей карьерной перспективой. А так стал бы учёным. И зачем полез в это?”. Он жалел меня, как родного сына. Однажды он принёс мне известную книжку Иванова “Осторожно - сионизм!”, из которой я должен был наконец понять, что 37-й год устроили сионисты. (Там же, среди НКВД, все евреи были.) - Когда она была издана - во время борьбы с космополитизмом? - Да, наверное. Нет, она была издана позже - в середине 60-х годов. В связи, видимо, с 67-м годов - Израилем и 7-дневной войной. А про тюрьму, где я провёл эти десять месяцев - отдельный разговор. Это - замечательная, лучшая тюрьма Советского Союза. - Да, это известно. - И библиотека там потрясающая. Она очень много мне дала в смысле самообразования. Первое, что я попросил там, это собрание сочинений Ленина. Мне сначала не дали. Сказали: “Только с разрешения следователя”. Зайцев мне дал разрешение, и я стал читать и конспектировать. Ленина я прочитал всего. Причём то собрание сочинений, которого не было в открытом доступе. Это были конфискованные где-то книги с предисловиями и потрясающими комментариями Каменева и Зиновьева. - И под их редакцией. - Да. - У меня есть отдельные тома этого красного издания. - Красного. Вот я их все прочёл. И благодаря комментариям понял, что такое Ленин. Например, он повёл себя очень непорядочно в ходе каких-то выборов (в Думу или куда-то) в 905-м или там ещё когда. - Если в Думу, то не раньше 906-го. - Да, где-то там. И когда его обвини в безнравственности, он сказал, что нравственно всё, что служит делу революции. А ещё там были приведены разные критические высказывания о Ленине. И когда это всё читаешь, складывается более-менее объективная картина. - А случайно ли Вам выдали именно это издание? - Я уже не помню. Или я сам попросил, или у них другого просто не было. Кончилось всё тем, что 24 сентября меня вызвали из камеры на третий этаж “Лефортова”. (Там на втором этаже - следственные кабинеты, а на третьем сидит начальство.) Меня встретил Юрий Анатольевич Зайцев (в парадном виде: в белой рубашке, с галстуком, весь светится): “Сейчас познакомлю тебя с очень большими людьми”. Сидят двое в штатском... - Они не представились? - Нет. Ну один сказал, там, “Иван Петрович” (или “Сидор Михайлович”). Но это не важно. Меня долго мучил вопрос: а кто же были эти двое? Позже я узнал, что один из них - Бобков. Стали меня спрашивать: “Ну как Вы дошли до жизни такой?” И я им на голубом глазу рассказываю: “Я считаю, что Сталин много чего плохого сделал, и мы решили не молчать”. Один из них говорит: “Я понимаю. Я, вообще-то, и сам, может быть, так же бы сделал, если бы был студентом. Но зачем листовки? Это же совершенно не нужно. Вы бы просто пришли, рассказали бы нам, поговорили... Мы ведь всё понимаем. Мы ведь Сталина тоже не очень любим. Он, конечно, много чего плохого сделал. Так что я даже не понимаю, за что Вы здесь”. Я говорю: “Я тоже не понимаю, за что”. Он говорит: “Ну вот мы тоже так подумали и хотим Вам сообщить, что по ходатайству Комитета государственной безопасности Президиум Верховного совета СССР издал указ о Вашем помиловании”. (Получилось, что до суда, ещё не признав виновным.) - А тогдашние законы это предусматривали? - Помилование до суда? - Да - до установления виновности. - Я не знаю. Может быть. Но для меня это дико. В чисто правовом смысле помиловать того, кто ещё не признан виновным - странно. - Дико - это одно. Другое - соответствовало ли это тогдашним законам. - Да. Может быть, и соответствовало. Очень важный момент... КГБ СССР ходатайствует перед Верховным советом о помиловании людей, дела которых уже должны передаваться в суд. Что это означает? То, что КГБ как бы гарантирует наше более-менее нормальное поведение в будущем. То есть они за нас как бы отвечают. - А какие у КГБ были основания брать на себя какую-то ответственность за Вас и проявлять такой гуманизм? Ведь Вы же не раскаялись, даже машинку не выдали. - Они же сказали, что ничего в этом страшного нет, потому что Сталин действительно много чего плохого сделал. А наша позиция выглядела наивной, но честной. И когда меня возили на экспертизу в Институт Сербского, мне поставили диагноз: инфантилизм. Что мне абсолютно понятно. Потому что парню, который учился в Физтехе, которому 21 год и у которого всё впереди, говорят: “Ты просто признайся, что виноват, и скажи, кто тебе все это дал, и тебя освободят, или тебе семь лет грозит по 70-й”, а я отвечаю: “Нет, я считаю, что я прав, и не буду никого подставлять”, они понимают, что это просто детское сознание. Для них это - инфантилизм. - То есть они считали Вас не опасным антисоветчиком, а... - Конечно - а человеком заблудшим. И была надежда, что после такой школы человек придёт в себя и займётся делом. Такой же разговор у них состоялся с Ириной Каплун, которую выпустили на 15 минут раньше меня. Но мне при этом сказали: “Естественно, что в Физтехе Вам больше не учиться, и поэтому у Вас нет никаких оснований жить в Москве. Так что Вы должны вернуться в свою Тверь и там устроиться на работу”. То есть хотели меня изолировать от моей компании. И после этого меня осенним вечером выпускают из “Лефортова” со справкой об освобождении, в которой написано: “Выдано денег 8 рублей 75 копеек” - это как раз, чтобы на такси куда-нибудь доехать. - Это они ещё и свои (гэбэшные) деньги Вам на такси дали?! - Нет, мои, - те, которые они у меня забрали при аресте. Кроме того, после освобождения (но не сразу) Зайцев мне выдал то, что у меня было изъято при обыске, включая крышку от чайника. После этого я его больше не видел. Но выпустили только нас двоих, потому что третья - Оля Иофе - летом 70-го года была признана невменяемой, и её отправили “на лечение” в казанскую спецпсихбольницу. Мы были на её суде как свидетели. Там присутствовала и Ира Каплун, и моя жена Татьяна Хромова... - Будущая жена? - Да, будущая. На суде фигурировал ещё один эпизод, который их сильно раздражал - самодельный плакат (типа коллажа) против Брежнева, замысел которого в большой степени принадлежал Татьяне Хромовой. Они никак не могли добиться, кто его автор. Тем не менее, он фигурировал в качестве эпизода обвинения на суде над Олей Иофе. Её признали невменяемой, и поэтому суд проходил без неё. И поэтому её не выпустили вместе с нами. Слава Богу, что её тоже долго не держали - она пробыла в Казани всего один год. (Через полгода её тоже освободили.) Сейчас она живёт в Париже. ...Я вышел из “Лефортова” в семь часов вечера. На дворе - сентябрь. Уже темнеет. А у меня кроме небольшой суммы денег - ничего. Никаких записных книжек. Единственный телефон, который я помню наизусть, это телефон Пети Якира на “Автозаводе”. Звоню туда... - Из уличного автомата? - Да. А там Валентина Ивановна, его жена, говорит: “Ой, Слава! Ирку уже выпустили, и сейчас они все - у неё на квартире. Поезжай туда”. (Это там, где мы листовки печатали.) Поехал я на эта квартиру... - На Ленинский проспект? - Да. Это рядом с гостиницей “Спутник” и Воробьёвским шоссе. Прихожу туда, а там народу - человек восемьдесят. Поздравить нас собрались все. (Когда про нас узнали, то обзвонили всех, и все приехали.) Там я, например, познакомился с Чалидзе, который через некоторое время после этого уехал на Запад. На следующий день, 25 числа (в свой день рождения), я поехал в Тверь. В Твери я пробыл очень недолго. КГБ пыталось меня устроить на работу лаборантом в Институт искусственных волокон, но поскольку устраивало КГБ, то на меня там смотрели странно. В конце концов, я оттуда свалил и вернулся в Москву. - То есть в Твери Вы так и не поработали? - Нет, не поработал. - В числе своих единомышленников по Физтеху Вы почему-то не назвали Сендерова и Щаранского. - С Сендеровым я тогда был знаком очень слабо. Я знал, что он интересуется самиздатом и даже пишет какие-то статьи, но близко мы с ним не были знакомы. Что касается Толи Щаранского, то мы, конечно, были с ним знакомы, но только как студенты. Никто же не знал, какой у него потенциал и кем он станет. Я просто запомнил его выступление на обсуждении спектакля, которое было самым ярким и достаточно антисоветским и которое, как я думаю, сыграло свою роль в запрете пьесы. - А удалось ли опубликовать в “Хронике...” какой-либо отчёт о суда над Алтуняном? - Конечно. Он есть. - А что было источником? - Ира Якир. - То есть удалось сохранить какие-то фрагменты Ваших записей? - То, что я писал - это была почти стенограмма. Другое дело, информация о суде... - А, официальная информация - которую получила семья. - В “Хронике...” стенограммы обычно не печатались. Там просто помещались (в пересказе) сообщения типа: “Состоялся такой-то суд...” - То есть, по сути, такая же информация вполне могла быть опубликована в “Правде”. - Ну уж... Хотя в “Хронике...” от каких-то оценок старались воздерживаться, но контекст там всё равно был совсем другой, и об осуждённых говорилось с симпатией. “Хроника...” хотя и считается объективным источником, но всё равно делалась людьми, которые относились с симпатией к тем, о ком писали.
“В МОСКВУ! В МОСКВУ!” В марте 71-го года я женился на Татьяне Хромовой и прописался в Москве. Тут же меня попытались забрать в армию, но Леонард Терновский, слава Богу, нашёл у меня язву. (Так я с ним и познакомился.) Леонард сам сделал мне снимки, с которыми я пошёл в военкомат, после чего меня положили на независимое обследование, которое подтвердило диагноз... - Не “независимое”, а, наоборот, государственное, от военкомата. - Да-да, от военкомата (можно сказать, “зависимое”). “Лефортово” дало мне язву, которой я только благодарен, потому что ничего, кроме добра, я от неё не имел: и от армии она меня освободила, и во время второй моей посадки это был хороший повод, чтобы раз в полгода получать хоть какое-то дополнительное питание и побывать несколько раз в больничке. То есть, это просто счастье. Как только меня освободили, и я стал жить в Москве, ко мне прикрепили негласного куратора из КГБ - Булата Базарбаевича Каратаева, который периодически звонил мне, представлялся “Борисом” и говорил: “Может быть, мы где-нибудь встретимся и поговорим?” Он пытался проследить за тем, какова моя эволюция. - Каким образом Вы его узнали и под каким именем? - Я его узнал под его настоящим именем. Случилось это или тогда, когда я приходил к Зайцеву за своими вещами, или чуть позже. Может быть, кто-то из них позвонил мне и попросил о встрече, сказав: “Нам бы хотелось изредка с Вами встречаться - узнавать, как Вы поживаете”. Я - человек открытый, и встречаться с ними был не против. Я виделся с Булатом Базарбаевичем и беседовал с ним (на общие темы) раза три или четыре. Кончилось это тем, что мы с ним окончательно разругались. Он понял, что я в эти игры не играю, когда я ему сказал: “Да Вы просто все врёте”. А не сошлись мы с ним на Бухарине и Троцком. Я говорю: “Вот Вы мне объясняете, что там всё было правильно. А посмотрите, что написано в советской энциклопедии... Во-первых, там нет такой статьи “Троцкий”. (Как будто не было вообще такого человека - Льва Троцкого, про которого ничего узнать нельзя.) Есть только статья “троцкизм”. Что написано про Бухарина, которого Ленин называл талантливейшим большевиком и так далее”?.. - ...Любимцем партии. - Да. ...“Что там написано? Что он - шпион японской и германской разведок, который лошадям в корм подсыпал толчёное стекло.” - Вы говорите, наверное, о втором издании БСЭ - тёмно-зелёном, 50-х годов? - Наверное. Это издание Большой советской энциклопедии было, действительно, тёмно-синим или тёмно-зелёным. (На самом деле - тёмно-синим, - АП.) Но интересно, что в Советском Энциклопедическом Словаре 1985 года издания тоже нет статьи о Троцком и не упоминается совсем Бухарин – не было таких людей. Вот я привожу ему такие примеры и спрашиваю: “Вы верите, что Бухарин - шпион?” А что ему отвечать? Реабилитации-то тогда ещё не было. И он говорит: “Да, он - шпион.” Ну и чего после этого с ним разговаривать? - “Вы не можете в это верить - Вы же сами себе врёте”. После этого мы с ним разругались, и он перестал меня беспокоить. (Встречались мы потом с ним только на обысках.) После освобождения вернуться в Физ-тех мне уже было невозможно: меня отчислили за “непосещение занятий”. Но меня вызвали в комитет комсомола института, где я был на комсомольском учете, для того, чтобы обсудить моё личное дело. (Я ведь ещё был комсомольцем.) И у нас состоялся интересный разговор с членами комитета комсомола, которые, раскрыв рот, слушали про мои приключения и спрашивали, правда ли, что я знаком с Сахаровым, а читал ли я Солженицына, а знаю ли я его. А я им всё это рассказывал. “Да, - говорили, - здорово. Как интересно.” Было видно, что им это всё очень любопытно. После чего единогласно исключили меня из комсомола. - Повторю вопрос: “А правда, что Вы были знакомы с Сахаровым и Солженицыным?” - С Солженицыным я лично знаком не был, а был знаком только с его женой, да и то познакомился с ней позже. А с Сахаровым был. - Вы мне ещё этим не хвастались. - А, подождите... Нет, лично знаком ещё не был, а только видел его, по-моему, во время нашей встречи на суде над Любарским. В первый раз его и Люсю Боннэр я увидел и более-менее с ними познакомился перед зданием суда в Калуге, во время процесса Любарского. Хотя, наверное, это было позже, в 72-м году. Но книжку его - “О прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе” - я тогда уже читал и очень хорошо знал. Книжка эта была тогда бестселлером, ходила в самиздате и была у нас в Физтехе (мы её даже сами распространяли в институте среди своих), и поэтому члены комитета меня о ней тоже расспрашивали. Период с 71-го по 76-й у меня выдался ровным. Я по-прежнему общался с той же группой правозащитников и достаточно регулярно подписывал какие-то письма. У меня прошли два или три обыска. - В связи с чем? - В связи с делами о “Хронике...” (известное 24-е дело). А один обыск у меня был совершенно непонятным. Часа в два ночи раздался звонок в дверь. Я открываю. Стоит Булат Базарбаевич, которого я давно не видел. Говорит: “Извините, что так поздно, но у нас есть сведения, что у Вас в квартире есть что-то такое, что для нас очень важно. Так что мы должны произвести у Вас обыск. Извините, что это ночью делаем”. - А он был не один? - Он - не один: сзади - команда ребят. Входят, предъявляют постановление на обыск. Я говорю: “А почему прокурор не дал санкцию?” Они говорят: “Ну это мы завтра получим, потому что - очень срочно”. Стали смотреть книжки. Естественно, как всегда, нашли и забрали какой-то самиздат. Проснулся мой маленький сынок, которому тогда было года четыре. Спрашивает у Татьяны: “Мама, а почему они папины книжки смотрят, а мои - нет?” Таня ему говорит: “Ну ничего, не переживай. Вырастишь, они и у тебя будут смотреть”. Они на неё посмотрели очень неодобрительно: чему, мол, она учит сына. Бывали обыски ещё в связи с арестами: если арестовывают кого-то, то, как правило, проходит волна обысков у людей, которые были с этим человеком связаны. Поскольку я старался регулярно ходить на Пушкинскую площадь... - Имеется в виду - выходить 5 декабря? - Да. Регулярно. Соответственно, меня несколько раз задерживали накануне демонстрации и держали в опорном пункте милиции, пока это всё не кончалось. - А интересно, под каким формальным предлогом задерживали? Как сейчас во время превентивного задержания - для установления личности, проверки подлинности документов и так далее? - Я уж и не помню, под каким предлогом – их могло быть масса... Пытался я и что-то делать для правозащитного движения. Например, помогал Татьяне Ходорович, поскольку она жила одна и нужно было для неё в магазин сходить, ещё куда-то. Я был молодым парнем и всячески старался быть полезным, сделать то одно, то другое. Потом, когда она в 70-х годах эмигрировала, она меня “передала” Зинаиде Михайловне Григоренко, с которой мы стали дружить семьями. Мы с женой очень часто бывали у Зинаиды Михайловны. Как-то по её просьбе я съездил в психбольницу в Белые Столбы, где познакомился с самим Григоренко, которого, впрочем, видел и раньше: мы встречались на суде над участниками демонстрации на Красной площади, где я проторчал три дня. - Суд какого года? - Суд был в конце октября 68-го года. - Это что, по поводу знаменитой демонстрации 68-го года? - Августовской демонстрации. Два месяца шло следствие, потом три дня - суд. Это для меня тоже было хорошей школой. На этот суд приходили и пьяные рабочие, которые говорили: “Так и надо было давить чехов”. А мы с ними спорили. - На суд приходили? - Ну около суда. (Это было на Серебрянической набережной.) А на сам суд попасть было нельзя. - Расскажите сразу о своём участии в выпуске “Хроники...”, по поводу которого у Вас тоже проходили обыски. - Участия практически никакого не было. Но они же не знали, кто конкретно работает для “Хроники...”. Поскольку я всё время вращался в этих кругах - постоянно присутствовал то на пресс-конференциях, то на каких-то встречах - я автоматически попадал в число возможных подозреваемых... Как раз тогда я более плотно познакомился и с Сахаровым, и с Еленой Георгиевной, несколько раз бывал на пресс-конференциях в их доме. Когда над Сахаровым нависла угроза со стороны “Чёрного сентября”... - Напомните эту историю. - К нему пришли арабы и потребовали прекратить его деятельность, иначе будет плохо его внуку, семье и так далее. После этого у Сахарова было организовано дежурство, и он больше не выходил гулять один, а всегда в сопровождении кого-то. Я был одним из тех, кто гулял с ним по Москве во время такого дежурства, а он о чём-то рассказывал. Вообще, в их квартире я бывал довольно часто. - А чем Вы тогда занимались “по жизни”? - Первая моя работа после Физтеха и после ареста - лаборант в Институте молекулярной биологии. Там я проработал полгода и перешёл в Институт электронных управляющих машин. В этом институте я работал до 73-го года и потом вместе с Мариной Сосинской перешёл в институт “Информэлектро”, который был известнейшим местом, где тогда разрешали работать всем сионистам и диссидентам. Там была известная лаборатория Мельчука (лингвиста мирового уровня, занимавшегося машинным переводом), а я работал программистом в вычислительном центре. И всю свою дальнейшую жизнь до 90- года я проработал программистом на электронных вычислительных машинах. В 76-м году было ещё одно очень интересное событие - освобождение Буковского. К тому времени среди опекаемых мною людей оказалась и Нина Ивановна Буковская... - Это - его мама? - Да, его мама, которая жила на Щёлковском шоссе. Я жил недалеко от неё - на Байкальской улице, и мы с женой иногда заходили к ней в гости и, вообще, поддерживали контакты. Потом вдруг выяснилось, что Буковского меняют на Корвалана, и Нине Ивановне сказали: “Вам - день на сборы, и Вы выезжаете вместе с сыном, которого высылают”. - Она что, отправилась вслед за ним? - Они отправились вместе, в одном самолёте. Вместе с ней была её дочка Ольга, сестра Володи Буковского, и его племянник, больной раком крови. (Он лежал в больнице, и поэтому вместе с нами ехала неотложка, которая везла его тоже в для посадки самолёт.) Они все полетели в Швейцарию. И так получилось, что я оказался одним из трёх людей, кого пустили на закрытый военный аэродром “Чкаловское”, откуда вылетал Буковский. Всем сказали, что он полетит из “Шереметьева”, и все корреспонденты и диссиденты поехали туда. А нам троим - мне, Ирке Якир и Вере Лашковой - разрешили сопровождать Нину Ивановну вместе с её вещами. Когда нас привезли на аэродром, Нина Ивановна сказала: “Пока я не увижу Володю, я никуда не полечу”. (Она просила, чтобы его показали.) Причём она не хотела подъезжать к самолёта одна. Она взяла Иру Якир, и они вдвоём подъехали на машине к самолету. Володю из самолёта высунули, показали, что он - здесь, а потом обратно засунули. Тогда Нина Ивановна пошла в самолёт. - В этот же? - Да, в этот же самолёт. После этого нас бросили на военном аэродроме. Мы пешком дошли до станции, на электричке вернулись в Москву, и здесь всем рассказывали, что и как. Нина Ивановна оставила мне ключи от квартиры и сказала, что квартира пока будет за ней (потому что она гражданства не была лишена), но вещи я могу раздать нашим знакомым. Однако на следующий же день меня вызвали в отдел кадров “Информэлектро” и сказали: “Мы знаем, что у Вас - ключи от квартиры. Дайте нам их”. (Они, мол, должны проверить, всё ли там в порядке: иначе могут чего-то украсть и так далее.) Я говорю: “Ключи я вам не дам. У меня вот - доверенность полностью распоряжаться имуществом Буковских”. Тогда они сказали, что взломают квартиру. Мы, несколько человек, поехали туда, они вскрыли квартиру и сделали опись всего, что там осталось. Сказали: “Вот вам неделя. Через неделю мы квартиру освобождаем, а всё, что останется, выгружаем в подвал”. - Почему в “Информэлектро” и кто именно занимался “освобождением” квартиры? - В “Информэлектро” я работал в то время. И меня вызвали через отдел кадров. - Нет, что это за люди, имевшие полномочия взламывать дверь? - КГБ. - Вот этого я и добивался. - Ну, конечно, КГБ. - Я думал, что это могли быть, допустим, люди из администрации “Информэлектро”, которой этот дом принадлежал. - Да, нет. Это - игры КГБ. Только я не помню, как они представились - то ли прокуратурой, то ли ещё кем-то, но всё это - гэбэшные игры. (Они хотели освободить эту квартиру, чтобы у Нины Ивановны не осталось никаких связей с родиной и чтобы она уехала туда с концами.)
ХЕЛЬСИНКСКИЙ ПРОЦЕСС ПОШЁЛ 76-й год - год создания Московской хельсинкской группы, которое обозначило новый этап развития правозащитного движения. Об этом рассказано много, поэтому я на этой теме останавливаться не буду. Расскажу о том, что Московская хельсинкская группа породила огромное количество самиздата - тех самых документов Московской хельсинкской группы, которые активно размножались и многие из которых я тоже подписывал. Я в Московскую хельсинкскую группу не входил, но в ней состояли Пётр Григорьевич Григоренко, с которым я был очень хорошо знаком, и Софья Васильевна Каллистратова - тоже известнейший человек. В статусе Хельсинкской группы было сказано, что Московская хельсинкская группа имеет право образовывать различные рабочие комиссии по тем проблемам, которые имеют наиболее острое звучание и вызывают наибольший интерес. Первая такая рабочая комиссия была образована через год после создания Московской хельсинкской группы - в январе 77-го года. Она называлась “Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях”. Я был одним из организаторов этой группы, которую мы решили создать после долгих обсуждений и разговоров с Петром Григорьевичем, который меня и пригласил в неё войти. В ней были ещё Саша Подрабинек, Ирина Каплун, Джемма Бабич, Феликс Серебров. Образовалась она как раз тогда, когда начались первые аресты членов Московской хельсинкской группы. Из истории известно, что реакция властей на создание МХГ была оперативной и очень жёсткой. Они сразу же стали всех вызывать, стали всем угрожать, стали проводить обыски и так далее. Буквально через год начались и первые аресты лидеров Московской хельсинкской группы. Поэтому когда накануне или сразу после начала арестов мы объявили о создании своей рабочей комиссии (это произошло 7 января 77-гго года), то тоже ожидали острой реакции на это со стороны КГБ. Тем не менее, создание этой рабочей комиссии прошло на удивление спокойно. Более того, она просуществовала три года, что в то время - довольно большой исторический срок для организации такого типа, которая не только формально существовала. но и очень активно действовала. За эти годы рабочей комиссией было издано, по-моему, 22 бюллетеня объёмом каждый от 25 до 50 страниц машинописного текста, где рассказывалось о тех случаях злоупотреблений психиатрией в Советском Союзе, которые нам стали известны. При этом мы действовали очень открыто и публиковали адреса всех участников рабочей группы на обложке каждого бюллетеня. Мы также просили писать нам в случае, если будут замечены какие-то ошибки. - Постойте. Такие объявления печатались в “Хронике...”... - В “Хронике...” - само собой. А у нас это стало системой в том смысле, что мы открыто называли всех членов рабочей комиссии - с адресами, телефонами и так далее. Кроме того, в каждом номере мы говорили, что в связи со сложностью доступа к информации в бюллетене рабочей комиссии могут быть ошибки, и поэтому мы обращаемся ко всем, кто их выявил, писать нам, а мы обязательно поместим их комментарий. А публиковались там сообщения типа: в больнице такой-то содержится тот-то, он оказался там в связи с такой-то деятельностью. Сообщали, если было известно, что пациента связывали, избивали и так далее, говорили о назначенных препаратах - галоперидоле или ещё чего-то. Сообщения о каждом таком случае мы посылали в конкретную упоминавшуюся больницу с той же самой просьбой - сообщить нам, если в нашем информации что-то не так. Наконец, все выпуски мы посылали в Минздрав, в прокуратуру Российской Федерации и в правительство. В КГБ мы, естественно, не посылали, но все они, в конечном итоге там оказывались. (Это выяснилось потом, в ходе суда.) Надо сказать, что тогда существовало очень аккуратное отношение к официальным организациям. Если организация официальная, то к ней все, вплоть до прокуратуры, относятся как к структуре, санкционированной сверху. А одним из атрибутов официальной организации был бланк. Такой бланк мы сделали и для себя - в подпольной типографии адвентистов седьмого дня. Пачку из пятисот бланков они нам передали, как сейчас помню, у метро “Красные Ворота” (тогда - “Лермонтовская”). На них мы писали официальные письма, официальные запросы. Первые закладки нашего бюллетеня делались тоже на бланке. - На каких условиях адвентисты сделали вам эти бланки? - Ни на каких. - Это - очень интересный случай, и поэтому прошу рассказать Вас о каких-то подробностях этой акции: какие у вас с ними были связи, известно ли, где работала эта типография? - Нет. Где работала типография, нам не известно. (Они никому это не говорили.) - Но потом она же наверняка “накрылась”. - Не факт. Адвентисты были довольно законспирированной организации, и выследить их было не так просто. Они соблюдали все правила конспирации. Это - не баптисты, которые были более открытыми, хотя тоже были запрещены. Адвентисты, на мой взгляд, работали в смысле конспирации более грамотно и тонко. А бланки они нам напечатали исходя из чисто личных хороших отношений. - И что, за все три года обысков бланки так и не обнаружили? - Мы их хранили в другом месте и брали оттуда небольшими порциями. Их у нас, естественно, отбирали, но понемногу. - Раньше такие меры предосторожности не спасали от изъятия... - Ну, не всегда. Ясно, что в Москве возможности сохранить что-то имелись. Ведь за всеми не следили. (Слежка, конечно, была, но только за ключевыми фигурами.) А обыски у нас проводили, но самих нас не арестовывали. То есть не арестовывали по линии рабочей комиссии. Они её как бы не замечали - несмотря на количество изданных бюллетеней. У меня было ощущение, что мой арест был бы признанием того, что в 70-м году они поступили неправильно, выпустив и как бы поручившись за нас. Им очень не хотелось это признавать, и они с этим делом тянули. И дотянули до 79-го года, когда было принято решение о вводе войск в Афганистан. - А бывали ответы на эти ваши запросы? - Нет! Как правило, не было! Ответы бывали иного рода... Когда мы на таком бланке написали официальное письмо, например, в прокуратуру Калининградской области по поводу преследования Вадима Конвалихина, то там переполошились и тут же сделали запрос в Московскую прокуратуру насчёт того, что это за организация, зарегистрирована ли она официально и как им отвечать на этот запрос. Меня вызвали в городскую прокуратуру и допросили по поводу Конвалихина. - В Калининградскую - в связи с Черняховской СПБ? - Нет, конечно, в московскую, по поручению калининградской. Так что изредка нам всё же отвечали. Два-три раза нам ответили из прокуратуры, что, мол, мы получили ваш запрос и нарушений никаких не обнаружили. Но ответы эти приходили, скорее, по недоразумению, потому что люди просто не поняли, что нам можно не отвечать, а нужно скорее бежать в КГБ и отдавать туда эти письма. - А почему в прокуратуру вызывали именно Вас? Что, Ваши адрес и фамилия стояли на этом бланке? - Нет, на бланке стояли адреса и телефоны всех членов рабочей комиссии. Просто я был первый по алфавиту. А негласным лидером группы был, конечно, Саша Подрабинек. Он издал до этого книгу “Карательная медицина”, и сам - медик, и занимался злоупотреблениями психиатрией давно и серьёзно. Но получилось так, что буквально через полгода после того, как рабочая комиссия начала работать, его арестовали. Причём не за рабочую комиссию, а за книгу. Был суд, и его отправили в ссылку в Якутию (куда я к нему ездил). После него роль фактического лидера группы пришлось брать на себя мне, потому что в ней уже никого из основателей не оставалось. Ира Каплун из комиссии вышла, Джемма Бабич в ней практически не работала, и остались только Феликс Серебров и я. Да и Феликса тоже через некоторое время арестовали, и он отсидел год за подделку записей в трудовой книжке. Уже потом в комиссию вошёл Леонард Терновский, после моего ареста вошла Ира Гривнина, которая всё время с нами работала, но не была формальным членом рабочей комиссии. Так что за подготовку материалов бюллетеня, за решения о том, что включать, что не включать в него, в каком виде и так далее - за это, в основном, отвечал я, вынужденно став лидером группы просто по праву старшинства. Наши бюллетени распространялись, конечно, довольно широко. Они уходили за границу, там зачитывались (с нашими адресами и телефонами) по Радио “Свобода”, и это тоже давало возможность к нам обращаться людям со всей страны - если кто-то из них имел проблемы с психиатрией. Другой спецификой нашей деятельности было то, что отношения друг с другом внутри групп и между группами были очень простые, человечные и бескорыстные. У нас не было какого-то внешнего финансирования, бюджета. Бюджет был у единственной организации - Фонда помощи политзаключённым, которому выделялись определённые средства Солженицыным. Мы тоже помогали “своим” “психбольным”, особенно тем, кто находился в “спецах”. Спецпсихбольниц на Россию было десять или двенадцать, и мы старались отследить, кто и где из “нашего” контингента там находится. Иногда это было довольно сложно, потому что случалось, что человека переводили из одной больницы в другую, но никто не знал, в какую. Мы придумали простой способ узнавать о пребывании человека в каком-то месте - отправлять туда на его имя перевод на 10 рублей. Если перевод возвращался, то значит, его там нет, а если не возвращался - значит, он там. Что касается специфики слежки за правозащитниками, то она заключалась в том, что её вели абсолютно открыто. Скрывали её очень редко, и если и пытались делать это, то делали довольно безграмотно. Это - совсем не то, что за шпионами. Когда шпионы, то за ними следят три-четыре бригады, которые меняются, и так далее. Здесь же была совершенно топорная работа, потому что они считали нас несерьёзным противником. Поэтому мне удавалась уходить от слежки самым простым путём: я выскакивал в последний момент из вагона метро, а они оставались внутри и не могли ничего сделать. Иногда это могло быть чревато последствиями, потому что нашим ребятам, бывало, угрожали: “Ещё раз уйдёшь - ноги переломаем”. Так что, в принципе, уйти от слежки - не проблема. - Это очень интересный момент - общение с топтунами... - У нас было много случаев общения с топтунами. - Но ведь они себя тем самым раскрывали. - Они себя не просто раскрывали. Бывали случаи демонстративной (пугающей) слежки, которая должна была человека вывести из равновесия. Обычно это делалось накануне ареста. Так было, например, у Саши Подрабинека, когда за ним ходили пять человек и две машины. Куда бы он ни шёл, за ним просто нагло шли на расстоянии трёх метров. За Анатолием Щаранским перед арестом тоже ходила, абсолютно не скрываясь, большая группа топтунов и психологически давила на него. Я не знаю прямых случаев избиения (скорее всего, они были), но случаи угроз точно бывали - с таким подтекстом: соблюдайте те правила, которые вам установили. На квартире Иры Гривниной на Проспекте Мира в районе метро “Щербаковская” (сейчас - “Алексеевская”) у нас была своего рода штаб-квартира, и я помню, как под Новый год мы там чего-то печатали и знали, что внизу стоит машина с топтунами. И мы даже вышли к ним, поздравили с Новом годом и пригласили в квартиру выпить. Они, правда, не пошли, но были очень благодарны. То есть у нас были нормальные отношения. Мы понимали, что это - их работа, что их тоже заставляют делать это. Конечно, особых симпатий мы к ним не испытывали, но понимали, что это - люди, у которых просто такая грязная и отвратительная работа. Так что отношения у нас складывались по-разному. - Мне кажется не очень логичным устраивать перед арестом демонстративную слежку, которая могла указать на предстоящий арест и позволить подозреваемому скрыть улики. - С одной стороны, это так. С другой стороны, мы, как и МХГ, действовали довольно открыто. Состав группы и рабочей комиссии были широко известны, адреса известны: приходи в любой момент, проводи обыск и бери то, что тебе надо. Пожалуйста! То есть информации было завались, документов, подтверждающих нашу деятельность, полно. Подписи тоже есть. (Наши документы подписывались открыто.) Так что нами ничего особо и не скрывалось. Каково же назначение такой слежки? Абсолютно психологическое, - психологическое давление в ситуации, когда ты знаешь, что у тебя остался последний месяц, последняя неделя, и ты пытаешься чего-то куда-то распихать и дать последние поручения. Ты всё время находишься в напряжённом состоянии, и когда тебя арестовывают, наступает облегчение: ну всё, слава богу! (Так было у меня после ареста в 69-м - облегчение в связи с тем, что мне не надо сдавать в институте экзамены, к которым я был не готов.) С другой стороны, гэбисты, видимо, считали, что в таком стрессовом состоянии человека легче потом допрашивать, легче от него получать какую-то информацию. Ещё одна особенность нашей деятельности заключался в том, что у нас была определённая группа людей, контактировавших с иностранцами - или с корреспондентами, или с дипломатами. Последнее время я и Юра Ярым-Агаев находились в основном в контакте с дипломатами из американского посольства, где у нас даже друзья появились. Один из них даже как-то показал нам на своей квартире фильм “Челюсти”, который тогда только что вышел в Америке. Но в дома, где живут посольские, просто так пройти было нельзя - охрана не пропускала. Единственный способ - проехать туда в машине самого дипломата. Это разрешалось, и дипломат мог провести к себе кого угодно. - Каким образом устанавливались контакты с дипломатами? - Иногда это делалось во время пресс-конференций, куда они тоже, бывало, приходили и где с ними взаимодействовали определённые люди. Одним из первых открыто взаимодействовать с журналистами и дипломатами стал Андрей Амальрик, что тогда воспринималось довольно революционно. В Хельсинской группе эту роль на себя брал Толя Щаранский. У нас это был или я, или Юра, который формально не входил в рабочую комиссию, но был членом Московской хельсинкской группы, куда он вступил в конце 70-х годов. (Потом он эмигрировал.) Могли иностранцы прийти даже и на квартиру. Часто случалось так, что к нам приходили какие-нибудь туристы. - Туристы не случайные, а имевшие... - ...Задание или просьбу от наших друзей. Так у нас появлялись новые друзья, один из которых даже писал мне в зону письма. Конечно, никаких денег нам никто не давал (мы работали абсолютно бескорыстно), но нам подарили, например, фотоаппарат, который был для нас очень ценен. Я этим фотоаппаратом снял, в частности, одну психбольницу закрытого типа в Талгаре под Алма-Атой, и мои фотографии появились потом в книге Питера Редуэя. Иногда приносили на квартиру какие-то продукты, иногда какую-то выпивку - вино, коньяк. Или приезжали иностранные туристы и передавали подарок от наших друзей – батон дорогой колбасы или чего-нибудь ещё. Эту колбасу мы, как правило, отдавали в фонд - чтобы её передали заключённым. Привозили, естественно, тамиздатские книжки, из которых создавали целые библиотеки. Привозили всякие там корректирующие карандаши для пишущих машинок, ластики и всё прочее. Ведь на протяжении 70-х годов работа с самиздатом в нашем окружении было очень развита. Я сам целиком перепечатал на машинке книгу “Москва-Петушки” Венички Ерофеева. Тем более, что я был с ним знаком, - он входил в круг друзей мамы Оли Иофе, и даже жил у них на квартире некоторое время. Перепечатал я и книгу стихов Галича, и даже перед его отъездом получил на ней автограф автора. Собрания самиздата, как правило, хранились не в одном месте, а были спрятаны у друзей и знакомых где-нибудь на антресолях. Случалось, что чемоданы, полные самиздата, обнаруживались там уже лет через десять после перестройки. Но в те годы, как известно, источников передачи информации из России на Запад было очень ограниченное количество. Все знают про зарубежных журналистов, дипломатов и туристов. В связи с этим вспоминается такой смешной случай... Нас как Рабочую группу по расследованию использования психиатрии в политических целях курировала известнейшая организация - Королевский колледж психиатров в Лондоне. Однажды к нам приехал его представитель - известный психиатр Гарри Лоубер. Он - представитель официальной зарубежной структуры, занимающейся психиатрией, и мы повели его в “Кащенко” - показать, что и как. В том числе - одного нашего подзащитного, который сидел в “Кащенко” в результате злоупотреблений психиатрией. Кроме того, мы многое ему рассказывали про то, что у нас происходит, передали какие-то документы - чтобы он отвёз эту информацию на Запад. Интересно, что когда он вернулся к себе на родину, то позвонил мне по телефону и радостным голосом прокричал: “Слава! Меня обшманяли!” (Он немножко говорил по-русски.) Оказалось, что когда он пересекал границу, его обыскали и всё к чёрту забрали - все его записи и так далее. Ещё одним источником общения с Западом был всё-таки телефон. Хотя и с нам была проблема: у большинства людей он был отключён, а в лучшем случае поставлен на прослушку (имеются в виду домашние телефоны). Конечно, была возможность пойти на Центральный телеграф и там заказать разговор. Но там тоже научились быстро такие звонки распознавать, потому что вскоре после начала разговора на линии появлялись помехи и разговор прерывался. Видимо, существовал список нежелательных номеров, и разговоры с ними прослушивались. Но мы придумали такой способ передачи информации... В моём отделе программистов в “Информэлектро” городской телефон стоял в отдельной кабинке с дверью. И я договорился с Кронидом Любарским, который издавал журнал “Страна и мир” и бюллетень о зеках в СССР, что он каждую неделю будет в определённое время звонить мне на этот номер. Я первым брал трубку и зачитывал ему подготовленный мною заранее материал. Так мы регулярно передавали информация в течении года, и никто этот рабочий телефон не отследил, потому что все ведь нельзя поставить на прослушку. Этот телефон - рабочий, и кто мог догадаться, что на рабочий телефон звонят из-за границы? - А почему Вы занялись именно психиатрией? - Если бы мне не предложил этим заняться Пётр Григорьевич Григоренко, то я бы, наверное, и не занялся. Сам я бы до этого не дошёл. Сейчас я понимаю, что всё это - не случайно. Во-первых, в то время злоупотребления психиатрией носили довольно массовый характер, и они стали предметом обсуждения и на международном уровне, и у нас в стране. Среди правозащитников они вызывали большое беспокойство, потому что признать здорового человека ненормальным - иногда это хуже, чем его убить. Это значит сделать из человека нечеловека. И что бы с ним потом ни случилось, всегда можно сослаться на то, что он ненормален и неадекватен. Поэтому многие готовы были идти в зону и сидеть там - как, например, Конвалихин, который просил: “Вы мне три года дайте, и всё. Только не в психбольницу”. Потому что в психбольнице тебя лишают всего. И такое лишение человека личности я рассматривал как страшнейшее преступление. Второе - это личность Григоренко, который от психиатрических репрессий пострадал, пожалуй, больше всего. Третье - это моё дело 69-го года, когда наша подельница Оля Иофе сама оказалась в психушке. Все эти факторы подготовили меня к тому, что к этому предложению я отнёсся очень серьёзно и не смог от него отказаться.
ПОСЛЕДНЯЯ ПОСАДКА В 79-м году на моём горизонте опять возник Булат Базарбаевич, который попросил меня прийти в большое здание КГБ (по-моему, в 5-й подъезд) и сказал: “Вас хочет видеть один очень важный человек”. Мы поднялись на верхний этаж. Я встретил там того же мужика, который меня выпускал в 70-м году. (Это - косвенное подтверждение того, что они всё-таки не забывали того, что тогда сделали.) И у меня с ним состоялся довольно откровенный и резкий разговор. На этот раз он вёл себя совершенно безобразно - просто как официальный чиновник. Он говорил: “То, чем Вы занимаетесь - это преступление. Вы клевещите, что в психбольницы сажают здоровых людей. Занимались бы лучше наукой”. И никакие мои доводы и аргументы на него не действовали. Расстались мы довольно холодно. Он сказал: “Я Вас последний раз предупреждаю: если Вы будете продолжать, то...” Я говорю: “Если вы будете продолжать так же действовать, то и я буду вынужден делать то, что я делал. Всё зависит от вас. Если бы вы прекратили злоупотребление психиатрией, я бы с удовольствием занялся наукой”. В тот раз, кстати, он опять представился как-то типа: “Сергей Иванович”, но потом я узнал, что это был Бобков. Мне рассказал об этом Юлий Ким, который этого “Сергея Ивановича” тоже встречал. Когда я вышел оттуда, я как мог по памяти записал нашу беседу и опубликовал её в следующем номере бюллетеня рабочей комиссии. Полученное мною предупреждение оказалось последним. В начале 80-го года в связи с приближением олимпиады началась серьёзная волна репрессий. Одним из первых был арестован Валера Абрамкин - в связи с журналом “Поиски”, который он издавал. Потом был сослан в Горький Сахаров. А меня в 79-м году уволили из “Информэлектро” - по сокращению штатов. Причём меня одного. Видимо, я их уже “достал”. И я устроился программистом в Институт социальной гигиены имени Семашко. Помню один забавный эпизод. Однажды я шёл к Сахарову подписывать письмо по поводу ввода войск в Афганистан. Мы по телефону договорились с Еленой Георгиевной, что к четырём я подойду. Но я не успевал, и шёл к половине пятого. По дороге туда меня подхватили под белы рученьки и - к машине. Говорят: “Слава, что же ты опаздываешь? Мы тебя уже полчаса ждём. Ну-ка быстренько в машину!” Они юмористы были. Отвезли в милицию. (У меня с собой была сумка самиздата, но, слава богу, тогда меня не обыскали.) Там я встретил Марию Григорьевну Подъяпольскую, которую таким же образом задержали. Она сказала: “Это, скорее всего, из-за Сахарова”. Потом, когда мы вышли, мы узнали, что у него прошёл обыск, а он сам сослан в Горький. А мы как раз к нему шли, и поэтому нас перехватили. - А какой был предлог для задержания? - Никакого. Установление личности, проверка документов. Атмосфера сгущалась, и было понятно, что нас тоже скоро будут брать. 12 февраля я ехал на работу на “Речной вокзал”, а по дороге зашёл к Ире Гривниной. Тут меня и забрали. Сначала продержали некоторое время в милиции. Потом отвезли опять в “Лефортово”, что тоже было показательно, потому что у меня - 190-я статья. (По 190-й статье в “Лефортово” не сидят.) И Булат Базарбаевич при этом был. Так что это было гэбешное кураторство. - При чём “при этом” был Булат Базарбаевич? - Арестовала меня милиция, и я три дня провёл в КПЗ. А когда после КПЗ меня сажали в машину, я увидел рядом с отделением милиции Булата Базарбаевича. Ясно, что он в это дело был вовлечён. На этот раз мне в “Лефортово” было просто, потому что я отказывался давать любые показания, да и тюрьма знакомая. А между допросами отдыхал и читал книжки. В этот раз я прочёл всю литературу на английском, которая там была. Учил слова, картотеку завёл и хорошо продвинулся в английском языке. Там и в зоне тоже. Английский я начал учить ещё в первую посадку. Но тогда я не знал, что там есть английские книжки. А во вторую я их все прочёл. Но их там было не много - десятка полтора всего. - А что это были за английские книги? - Да всякие - детективчики, исторические какие-то книжки. - Странная библиотека. - Странная. Причём этих книг не было в каталоге, который раздают обычным арестантам. Но я спросил: “Есть на английском?” - “Да, есть.” Дальше – был суд (24 сентября). Дали три года, хотя обвинительное заключение тянуло на 70-ю статью. (Когда его читаешь, видишь, что состав преступления суров.) И в зале народ кричал: “Мало дали!” Я говорю: “А больше нельзя - это максимум по этой статье”. Но потом придумали увеличивать сроки... - ...Непосредственно на месте. - На месте, да. И когда я отсидел два с лишним года, Татьяна мне написала, что с Валерой Абрамкиным это уже проделали. И я думал, что что-то такое могут и со мной сделать. И действительно, так и случилось - завели второе дело. - За какую же деятельность в зоне Вам предъявили обвинение? - За разговоры. Только. За разговоры со своими сосидельцами, которые меня спрашивали, за что я сижу. Я говорю: вот за это. - “Ну-ка, интересно. А Сахарова видел?” - “Видел.” - “А как он? А что ты там писал? Что там было?” А когда расскажешь про Чехословакию, про ввод войск, это оказывается “клеветой”. И всё. При этом, удивительное дело, даже не всё лагерное начальство свидетельствовало против меня. Замполит, например, говорил, что я, на его взгляд, являюсь честным человеком, потому что я что думаю, то и говорю. А это для “заведомой ложности” абсолютно неприемлемо, и это работало против обвинения. (“Заведомая ложь” - это когда ты знаешь, что ты врёшь, но, тем не менее, продолжаешь это утверждать.) Выездная сессия Томского областного суда была в городе Асино, где я сидел, и судья Миронов дал мне год. Тут ж последовал протест прокурора, который считал, что мало дали, потому что я не раскаялся. (Можно сказать, рецидивист - второй раз совершил такое же преступление.) Но Верховный суд почему-то проштамповал прежнее решение, и у меня остался год. Сидеть мне оставалось и того меньше - восемь месяцев на строгом режиме. И если на общем режиме средний срок - два, два с половиной, то на строгом сидят серьёзные ребята. На строгом, конечно, гораздо лучше сидеть, и поэтому для меня эти восемь месяцев - смех. Тем более, что я ещё на предыдущем сроке на больничке познакомился с ребятами из этой строгой зоны. Так что некоторое время там сидеть было нормально. Но приехали из КГБ и стали опять требовать, чтобы я покаялся. А поскольку я не стал писать покаяния, они приказали начальству всячески меня гнобить. Меня поставили на очень тяжёлую работу, совершенно каторжную. И я думал, что меня просто не выпустят к концу срока, а ещё что-нибудь придумают, чтобы срок добавить. Но когда срок закончился, меня отпустили - под гласный надзор. И отправили в Тверь. Интересно, что уже после перестройки я получил письмо от судьи Миронова, который написал, что раскаивается в том, что был вынужден участвовать в этом процессе, что он ничего не мог сделать, и максимум, что смог - это дать мне один год вместе трёх. “Я, - продолжает, - об этом всё время думал и добился Вашей реабилитации по этому делу и посылаю Вам в этом же письме справку о реабилитации.” Это, конечно, уникальный случай. (Я такого больше не припомню.) Я вернулся в Тверь. По дороге из Томска я заехал в Москву, но мне надо было успеть встать на учёт в течении трёх дней. (Если больше трёх дней, то это уже - нарушение режима. А за нарушение режима - до года лишения свободы.) Поэтому я домой только заехал, переночевал там, и когда кончался трехдневный срок, приехал в милицию и встал на учёт. Я должен был найти место, где жить. Но меня ни к каким моим родственникам и знакомым не прописывали. Мне удалось прописаться только в Калининском районе, за городской чертой - в деревянной избе у замечательной тётеньки, которую мне порекомендовали знакомые и которой, конечно, из-за меня сильно досталось. Там я жил под надзором. А под надзором - это значит, что с десяти до шести ты не имеешь права покидать дом. По городу ты имеешь право продвигаться только по некоторым районам. Там, где не живёшь или не работаешь, ты не появляешься. Не можешь появляться и в местах массового скопления людей; в кино, в театры ходить нельзя. И должен раз в неделю отмечаться в милиции. С такой судимостью надо было ещё усуметь строиться на работу. Но мне опять повезло. В трудовой книжке у меня было записано: “Уволен в связи с невыходом на работу”. Слова “арест”, естественно, нет. Когда я с этой трудовой книжкой пришёл в бюро по трудоустройству города Твери, то там посмотрели: “Программист, профессия нужная. Но чего же Вы три года не работали?” Я говорю: “Да по семейным обстоятельствам”. Мне дали направление в КБ “Спецавтоматика”. Я туда пришёл, и меня с удовольствием приняли. Но их мне подводить не хотелось, и я сказал, что сидел. Но они к этому отнеслись спокойно. И там я проработал с 84-го по 89-й год. - Кстати, описанный Вами режим очень напоминает режим ссылки... - Не совсем. Да, это почти ссылка, просто ссылка дается по суду, а надзор – мера административная, назначаемая после заключения. - А был срок установлен? - Год. И я старался соблюдать все правила абсолютно чётко, потому что мне не хотелось, чтобы мне дали ещё год. Но когда этот год подходил к концу, потребовалось как-то срок продлить. И мне устроили провокацию. В тот день я как раз ходил отмечаться, а на обратном пути сбил с ног старичка, который шёл прямо на меня, упал и стал кричать, что я его сбил. Появились какие-то молодые люди: “Как, что? Что случилось? Давайте пройдём в отделение милиции, и вы нам расскажите, что случилось”. “Потерпевший” написал заявление, что я сбил его с ног, обругал матом, сказал: “Чего ты тут шляешься? Тебе помирать пора” и так далее. Словом, “хулиганка” в чистом виде. Меня задержали и сутки продержали в КПЗ. На следующее утро отвезли в суд, чтобы дать 15 суток. Судья посмотрел показания, и говорит: “А у меня нет достаточно оснований для того, чтобы дать 15 суток”. Тогда меня отвезли в прокуратуру. Злобная прокурорша сказала: “Я, вообще, не понимаю, чего такие люди делают на свободе. Им сидеть давно пора”. И дали мне в милиции 50 рублей штрафа. Тем не менее, нарушение было, и это дало основания для продления мне надзора ещё на полгода. Я подумал, что теперь они успокоятся. Но ошибся. В начале марта 85-го я вечером возвращался со свадьбы своей родственницы. До десяти у меня оставалось ещё полчаса, и я быстрым шагом шёл домой. Мне навстречу какой-то мужик: “Дайте прикурить”. У меня сигарет не было. Тогда он схватил меня за сумку и держит. У меня сразу мысль: “Он, наверное, хочет меня задержать, чтобы я не успел вовремя вернутся домой. Там меня проверят и составят протокол”. Я пытался вырваться. У него упала шапка, и он начал кричать: “Помогите! Помогите! Он хочет украсть у меня шапку!” Какой-то народ это услышал, стал смотреть. Подъехал милицейский УАЗик: “Что случилось? Кто тут свидетели?” Быстренько свидетелей переписали, а нас - в машину. И опять в КПЗ. На следующее утро меня - к следователю прокуратуры. Говорит: “Чего это меня из отпуска вызвали? По срочному важному делу. Чего, вообще, случилось-то?” Я говорю: “Не знаю”. “Да, - продолжает, - что-то непонятное. Но, вообще-то, ситуация у Вас не очень хорошая, потому что у мужика - синяк под глазом. (Вы же его ударили.)” Я говорю: “Да я его пальцем не тронул”. А у того, действительно, под глазом синячище. То есть ребята ему, видимо, очень хорошо врезали. - Какие ребята? - Ну какие? Милиция. Они же и врезали. - Когда? - Когда арестовывали. Им же надо было доказать... - Его арестовывали? - И меня. Нас двоих арестовали. Потому что его показания были такие: он себе спокойно шёл, попросил у человека закурить, а тот вдруг ни с того, ни с сего бьёт его кулаком в глаз. Всё нормально: обычное хулиганство. Представьте: 8 марта, в выходной день, меня и этого мужика посадили в УАЗик и стали возить по больницам, чтобы снять у него побои. И милиция ездила по городу, чтобы найти дежурную больницу. Наконец нашли. Врач меня спрашивает: “А чего случилось?” Я объяснил ситуацию. “Вот гады, - говорит. - То-то они 8 марта припёрлись.” В больнице зафиксировали: да, синяк, и отвезли нас обратно. Два дня я просидел в КПЗ районного отделения, а потом меня отправили уже в КПЗ УВД. Я должен был просидеть там три дня - пока мне не предъявят обвинения. И только после этого меня могли перевести в тюрьму. (“Хулиганка” - серьёзное обвинения: человек агрессивен, опасен.) Так я просидел трое суток, но вдруг меня выпускают. Оказалось, что прокуратура не дала санкции на арест. И до суда я ходил на воле. Но ощущение было жуткое: ты понимаешь, что любой идущий тебе навстречу человек может тебя схватить и сказать, что ты у него что-то украл. И тут же “украденное” у тебя найдётся. Я даже стал переходить на другую сторону улицы, когда видел, что кто-то идёт мне навстречу. И до суда меня всё время, каждый день сопровождали друзья, которые установили дежурство. Так что один я больше никуда не ходил. Это так злило гэбэшников и ментов! Досталось и моей хозяйке: они приходили к ней, допрашивали насчёт меня. Говорили: “А Вы знаете, с кем связались?” Но она говорит: “Да он нормальный парень, книги читает...”. Следствие шло два месяца. Друзья написали письма в мою защиту, по “Голосу Америки” про меня рассказывают. Потом суд. Уходя на него, я взял на работе очередной отпуск. На суде я говорил, что это - провокация. А прокурор выступал так: “Я понимаю, что перед нами, вроде бы - замечательный парень, который в своё время сбился с правильного пути, но которого сейчас его друзья характеризуют положительно. Единственный у него минус - это его навязчивая идея: он всё время ожидает какой-то провокации. Вот шёл обычный человек, попросил закурить, а он подумал, что это - провокация, не сдержался и ударил прохожего. Я могу понять: у человека всё время напряжены нервы, он всё время чего-то ждёт. Но как бы я к нему ни относился, это, всё-таки, преступление, это - нарушение закона, это - 206-я, часть 2-я (санкция - от двух до пяти лет). Я понимаю, что пять лет - это, конечно. слишком много. Но три года, я думаю, достаточно. Так что я прошу три года лагеря строго режима”. Судья это предложение проштамповал: три года. Меня забирают в зале суда и - в тюрьму. Посадили меня в спецкамеру, где сидело десять человек, общий срок у которых был лет под сто. (Меньше восьми, по-моему, не было ни у кого.) Прошло две недели, и вдруг меня вызывают “с вещами” и освобождают. Оказалось, что была кассация, по результатам которой мне изменили статью с 206-й на другую - что-то типа “нанесение побоев вследствие взаимной неприязни”, которая не предусматривает лишения свободы, а только - принудительные работы. И мне дали полгода принудработ по месту работы с вычитанием 20 процентов из зарплаты. Так получилось потому, что не нашлось ни одного свидетеля, видевшего начало нашего конфликта. И поэтому вроде бы не удалось доказать, что я его ударил из хулиганских побуждений. На следующий день у меня как раз закончился отпуск, и я спокойно вышел на работу. На работе меня встретили нормально. Правда, КГБ требовало от коллектива, чтобы меня осудили. Было созвано собрание. Меня спрашивали: “А чего там случилось? Почему про Вас говорят по “Голосу Америки”? Вы бы это осудили”. Я говорю: “А я ничего против этих передач не имею. Если бы меня не посадили, то обо мне бы и не говорили”. Они не знают, чего сказать, понимая, что я прав. (Там были нормальные люди.) Но резолюцию какую-то им надо принять. И они пишут примерно следующее: “Мы просим Вячеслава Ивановича в следующий раз, если такое повториться, воздержаться от обращения к разным “голосам”, наносящего ущерб престижу страны”. (Какую-то такую чушь понаписали.) Но режим мне ещё раз продлили на полгода, и я, таким образом, провёл под надзором более полутора лет. Потом начались перестроечные времена, и его сняли. - Вы ничего не рассказали о том, занимались ли Вы в течении этого тверского периода реальной антисоветской деятельностью. - Нет. У меня не было для этого возможности. Я занимался французским языком, игрой на флейте, читал книжки и работал. Реальных контактов с оппозиционными структурами у меня особо не было. Меня навещали друзья, чего-то рассказывали, но принимать активного участия в текущих событиях я просто не мог. После второго суда отсчёт срока моей судимости начался заново, и продолжался с 85-го по 88-й. Когда все мои сроки закончились, я в 89-м вернулся в Москву.
ПРИЛОЖЕНИЕ - В завершение предлагаю ответить на стандартные вопросы нашей анкеты, разработанной Игруновым. Итак, как и когда появился самиздат в СССР? Когда и почему самиздат в СССР прекратил своё существование? - Если учесть, что самиздат - это реализация внутреннего права человека получать и распространять информацию (которое присуще любому человеку), то понятно, почему он появился. И прекратил он своё существование тогда, когда это право стало более-менее гарантировано. То есть когда открылся информационный рынок, когда был принят закон о печати, когда была отменена цензура и так далее. То есть когда получать и свободно распространять любые материалы стало не опасно. Тогда основа для существования самиздата и пропала. Но и тогда, когда рынок ещё не был насыщен, вполне могли быть случаи, когда человек мог сам что-то перепечатать, например, стихи, и отдать их друзьям. Но сейчас, в наше время, копирование текстов стоит настолько недорого, а средства копирования настолько доступны, что самиздат перестал существовать. - Авторитетнейший исследователь Александр Даниэль считает, что самиздат прекратил своё существование в конце 70-х годов, когда был вытеснен тамиздатом. - Я, пожалуй, тут не соглашусь с Александром. Тамиздат самиздат не заменяет. Или заменяет лишь частично. Во многом источником тамиздата был самиздат. Так что вытеснить друг друга они не могли. - Каковы были цели и пути распространения самиздата? - Про цели я сказал в своём ответе на предыдущий вопрос. Я полагаю, что появление самиздата и сам феномен самиздата - это один из способов реализации естественного (или ощущаемого как естественное) права человека на получение и распространение информации. В тоталитарных же или авторитарных государствах, где информация находится под контролем, самиздат - естественный протест против такого контроля над информацией. Что касается путей и способов распространения самиздата, то их так много, что даже не знаю, можно ли их перечислить. Всё зависит о того, о каком самиздате идёт речь. Был, например, самиздат подпольно-информационный, когда информация передавалась на волю из закрытых учреждений типа зон, тюрем и так далее и потом продвигалась дальше. Так что если посидеть минут пятнадцать, то пути распространения можно было бы, наверное, проклассифицировать. Но главный путь такой: прочитал - передай другому. Это - нормальный, естественный путь. А то, какое время тебе давалось для прочтения, диктовал рынок самиздата. Вот если на рынке чего-то было мало, то тебе это давалось на короткий срок, если много, то ты мог даже взять один экземпляр себе. Перепечатывать было тогда довольно трудно, поэтому способы копирования были разные. Я их уже называл. Так, очень распространён был фотоспособ. Плёнка занимала мало места, её всегда можно было кому-то передать и сделать копию. Так что с плёнок мы делали копии самых разных книг. Другое дело, что сами книжки при этом получались толстыми. Я помню, как в 70-е годы стал появляться “Архипелаг ГУЛАГ”. Занимались распространением этих книг Ковалёв (ещё до своего ареста в 75-м или 74-м году) вместе с Татьяной Великановой. Это были книги, сброшюрованные тут же и напечатанные где-то в нашей типографии. Эти книжечки я брал у Ковалёва и давал читать своим знакомым, потому что они пользовались большим спросом - как горячие пирожки. - Что значит “сброшюрованные тут же” и “в нашей типографии”? - Как я понимаю, это было сделано где-то в России (в Советском Союзе), а не прислано из-за рубежа. Но сделано это было не в виде книжки, а в виде... - ...Отдельных тетрадок? - Да, тетрадок, которые надо было ещё сброшюровывать. Этих книжек были сотни экземпляров. Я приходил к Ковалёву, и он давал мне на распространение 5-7 экземпляров. - Известно, что тираж малоформатных книжек “Архипелага...” напечатал где-то в Грузии Гамсахурдия... - Ну может быть, это оттуда и пришло, потому что эти книжки тоже были малоформатными. - Наш следующий вопрос как раз - существовал ли рынок самиздата? Скажу кстати, что те свои книги “Архипелага...” Гамсахурдия продавал по 25 рублей. - Я сейчас уже не помню, но, может быть, те книжечки и продавались - за какую-то небольшую сумму. Вообще, тогда если речь и шла о деньгах, то, как правило, только для оплаты труда машинисток. Но и то - они брали очень дёшево. Бюллетень нам печатала очень пожилая хромая женщина, которая еле ходила. Она нас очень любила, и когда мы к ней приходили (а жила она в Потаповском переулке), всё сажала нас чаю попить: “Деточки, через неделю приходите”. Приходим, а все экземпляры лежат готовые. И брала она очень недорого. Такие машинистки были в Москве на вес золота, и мы их передавали от одной группы к другой. Но ни о каком прибавочном продукте или выгоде нам и мысль не приходила. (У нас мозги было по-другому повёрнуты.) Если бы мы узнали, что кто-то на этом наживается, то мы бы относились к такому человеку с большим подозрением. Так что какие-то элементы рынка могли появиться, но как такового его не было. - Ну а на вопрос: “Не вспомните ли Вы какие-нибудь интересные, яркие моменты, связанные с бытованием самиздата?”, Вы уже отвечали по ходу нашей беседы. И добавить Вам нечего? - Да.
Беседовал Алексей Пятковский. 30 июля - 1 августа 2007 г. [1] Член Московской хельсинской группы, председатель Правления Сетевого института общественных инноваций.
См. также Мемуары В.Бахмина. Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



