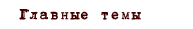
 |
|
Глава 8Политическая культура российских "демократов": новое и староеЦель данной главы – рассмотреть политическую культуру российских "демократов" в более широком контексте, сопоставив ее с политическими концепциями и системами представлений западного мира (прежде всего теми, которые образуют основу современной политологии как научной дисциплины), а также с более ранними русскими и советскими политическими теориями и с политической культурой Советского Союза в целом. Это позволит более точно определить элементы преемственности и новизны в политической субкультуре российских "демократов", выявить механизм создания новых элементов и поддержания традиций, и проследить, как западные идеи получали новую интерпретацию на российской почве. Некоторые из этих сопоставлений необходимо предварить описанием современного состояния исследований западной, а особенно русской и советской политических культур и политической мысли, которое пока что далеко от совершенства. Сопоставление системы представлений российских "демократов" и более ранних российских представлений ограничивается недостатком серьезных исследований по истории представлений в России. Сравнение же системы представлений российских "демократов" с теориями и концепциями современной политологии осложнено по иной причине. Представления, составляющие политическую культуру, не обязательно образуют систему непротиворечивых концепций; зачастую они не связаны друг с другом логически, не сочетаются друг с другом и могут даже быть логически несовместимыми. Политическая культура – всего лишь аналитическая модель, состоящая из представлений, типичных или наиболее распространенных среди членов данной социальной или политической группы. В отличие от концепции или теории, она не может быть целиком изложена в одном или нескольких документах, она не сформулирована последовательно в какой-либо книге или статье, и ни один из членов группы не принимает все до единого ее компоненты. Следовательно, выводы типа: "политическая культура российских "демократов" - это новая версия либерализма Дж. С. Милля или Ф. Хайека", - бессмысленны, поскольку теории Дж.С. Милля, Ф. Хайека и прочих - это взгляды отдельных мыслителей, изложенные на бумаге весьма продуманно и детально (хотя не обязательно абсолютно последовательно), и было бы неразумно рассчитывать найти нечто подобное в такой аморфной структуре, как политическая культура большой группы людей. Тем не менее некоторые способы сопоставления вполне доступны и они будут использованы в данной главе. Во-первых, можно указать на те элементы теорий и концепций, которые используются и адаптируются политической культурой, и проанализировать, почему предпочтение было отдано именно им. Во-вторых, можно сопоставить политическую культуру российских "демократов" с широкими идеологическими течениями, такими, как классический западный либерализм, консерватизм или демократический социализм в целом, основываясь на том, что эти течения в определенные периоды времени становились существенными частями политической культуры различных социальных и политических групп. В-третьих, поскольку, как показал Н. Лейтес, часто трудно определить, что разрешено в рамках кода данной политической культуры, можно обозначить ее границы, указав, что им запрещено или считается неприемлемым. Все эти три метода используются ниже. 8.1. Причины популярности понятия "тоталитаризм"Как показано выше, при описании характера советского общества и коммунистического режима российские "демократы" часто употребляли термины из западной политологии, которые либо не использовались в официальной советской политической литературе, либо были запрещены для определения советской реальности. Самым популярным среди них был термин "тоталитаризм". По мнению "демократов", характеристика советского общества как "тоталитарного" не противоречила другим определениям, таким, как "партийная диктатура", "партократия", "административно-командная система", "диктатура бюрократии" и т.д. Все эти термины часто использовались как взаимозаменяемые синонимы понятия "тоталитаризм", чтобы подчеркнуть какую-либо конкретную особенность системы. Характеризуя свое общество как тоталитарное, российские "демократы" были убеждены, что используют терминологию, принятую в западной социологии. Большинство из них ничего не знало об альтернативных западных подходах (возможно, за исключением некоторых подходов тех западных авторов, которые считали СССР разновидностью социалистического государства и которых российские "демократы" считали жертвами советской пропаганды). А между тем еще до того, как концепция "тоталитаризма" завоевала популярность среди российских "демократов", она подверглась сильной критике в западной политологии, и число сторонников ее применения к послесталинскому СССР значительно уменьшилось[1]. Что же было причиной такой популярности идеи тоталитаризма и пренебрежения другими западными концепциями в советских оппозиционных кругах? Подход российских "демократов" к собственной стране был далек от теоретического; следовательно, корни популярности идеи тоталитаризма следует искать не в западных теоретических трактатах, а в критическом отношении к существующей системе, в идеализации "антитоталитарного" Запада и во всей системе оппозиционных политических представлений. Для "демократов" советское государство с его системой власти и социальных отношений было опасным противником, а не объектом научного анализа, в то время как Запад представлялся идеалом, которому следовало подражать. Естественно, что для определения этого противника была взята концепция, которую на Западе использовали самые бескомпромиссные критики советского коммунизма, и которая, как признавали сами западные теоретики, стала "не просто концепцией, о которой можно дискутировать по сути, типа концепций свободы или демократии, не нормативной идеей с заложенным ценностным содержанием, как все значительные политические идеи, но термином, основные значения и употребления которого являются исключительно идеологическими"[2]. Для проникновения концепции "тоталитаризма" в Россию особенно важным было то, что, в отличие от большинства других теорий о коммунистических режимах, понятие тоталитаризма к 80-м годам XX века стало штампом в западных средствах массовой информации, включая радиопередачи на русском языке. Не теоретические работы западных политологов, а эти радиопередачи и им подобные материалы стали для российских "демократов" главным источником новых идей о советском обществе. Доступность и широкое распространение, конечно, были не единственными причинами успеха концепции тоталитаризма в России. Главной причиной оставалось то, что российские "демократы", враждебно настроенные к советскому "тоталитарному" государству, с симпатией и пониманием воспринимали основные положения западных исследований (которые доходили до российских "демократов", зачастую в искаженной форме, через средства массовой информации и сочинения некоторых известных публицистов периода гласности), постольку поскольку те отвечали их опыту, представлениям и чаяниям. Из этих положений самыми очевидными были фундаментальное противопоставление тоталитаризма западной либеральной демократии и западной цивилизации в целом, их абсолютно взаимоисключающий характер, четко сформулированный и многократно подчеркиваемый авторами концепции тоталитаризма[3]. Идея противостояния двух миров и двух цивилизаций была знакома российским "демократам", которые в еще школе учили официальную советскую теорию о всемирно-историческом противостоянии социалистического и капиталистического миров. Проводимые западными политологами параллели между советским и гитлеровским режимами, благодаря которым советскую систему стали считать тоталитарной, также воспринимались российскими "демократами" в рамках идеи противостояния абсолютного добра и абсолютного зла. Для жителей России эти параллели содержали значительные ценностные и эмоциональные элементы. Заявление, что правящий коммунистический режим является фашистским или полуфашистским, в СССР, где каждый ребенок знал, что во всем мире нет ничего хуже фашизма, на практике означало не просто научное определение системы, а утверждение, что СССР (поскольку фашистская Германия давно исчезла с карты мира) является центром мирового зла. Российским "демократам" также было легко согласиться, что между советским режимом и обычной диктатурой есть существенная разница. Теоретики тоталитаризма указывали, что современная технология делает тоталитаризм новой, более стабильной и более опасной формой автократии[4]. Российские "демократы" соглашались с этой точкой зрения по нескольким причинам. Во-первых, объявление правящего режима не обыкновенным злом (по сравнению со "свободным", "демократическим" обществом), а исключительным, крайним злом, борьба с которым также имеет исключительное значение, давало прекрасное оправдание этой борьбе и добавляло ее участникам самоуважения. Во-вторых, определение коммунистического режима как тоталитарного давало возможность найти в русской истории периоды, которые можно было представить как более приемлемую альтернативу. Например, царское самодержавие, особенно после 1905 г., с точки зрения "демократов", было явно недемократичным, но все же намного либеральнее коммунистического тоталитаризма, и, значит, могло служить источником полезных заимствований[5]. Не противоречило этому определению и мнение о том, что до большевистской революции Россия в принципе двигалась в верном направлении, и если вырвать власть из рук коммунистов, страна вернется на магистральную дорогу мировой цивилизации. В то же время понимание тоталитаризма российскими "демократами" значительно отличалось от его западных интерпретаций, включая принятые в политологии. Дело не в том, что российские "демократы" не согласились бы с отдельными характеристиками тоталитаризма, которые выделяли Р. Арон, К. Фридрих или З. Бжезинский. По мнению К. Фридриха, первым сформулировавшего эти характеристики в 1953 г., "тоталитарный синдром" составляют: 1) официальная идеология, которой обязан придерживаться любой член общества и которая сфокусирована на "идеальное" конечное состояние человечества; 2) единственная иерархически организованная массовая правящая партия, обычно возглавляемая одним человеком; 3) технически обеспеченная практически полная монополия партии и бюрократии на эффективное использование всех видов оружия; 4) технически обеспеченный контроль над всеми эффективными средствами массовой информации; 5) система террористического полицейского контроля[6]. В книге, написанной позже в соавторстве с З. Бжезинским, был добавлен шестой фактор: централизованный контроль и управление всей экономикой[7]. Р. Арон, чья интерпретация тоталитаризма, является наиболее популярной во франкоязычной политологии, сформулировал пять аналогичных признаков: однопартийная монополия; идеология, ставшая официальной государственной истиной; монополия государства и его представителей на средства принуждения и убеждения (средства массовой информации); государственный контроль над экономической и профессиональной деятельностью; идеологическое осмысление всех возможных прегрешений, полицейский и идеологический террор[8]. Однопартийное государство, тотальная идеологизация общества, государственная монополия на средства массовой информации, государственный контроль за экономической и общественной жизнью, политический террор и "культ личности", разумеется, принимались российскими "демократами" как характеристики собственного общества. Однако свой анализ они проводили под другим углом, исходя не из эмпирической (или, исторической, как у Х. Арендт) позиции, а из знакомых постулатов марксизма, и, в первую очередь, из его классовой теории. С этой точки зрения все вышеперечисленные характеристики тоталитаризма имели одну основу: классовое господство бюрократии (номенклатуры, партократии и т.д.) Поэтому описания тоталитаризма, которые дают К. Фридрих, З. Бжезинский или Р. Арон, не могли приобрести большой популярности, так как, с точки зрения российских оппозиционеров, они просто перечисляют факты, хорошо известные им самим. Именно по этой причине, а не только благодаря своей художественной форме, в советских оппозиционно настроенных кругах гораздо большую популярность приобрел роман Дж. Орвелла "1984", в котором корни феномена усматриваются в абсолютной власти нового бюрократического класса. Единственный момент в теоретических работах о тоталитаризме, который мог привлекать российских "демократов" - это провозглашение советского коммунизма и немецкого фашизма явлениями одного порядка, что имело для них не теоретическое, а "обвинительное" значение. Это легко понять, поскольку "демократическое" движение состояло не из теоретиков, а из политических активистов, которые поставили определенную политическую цель - ликвидацию правящего режима. (Это, конечно, не означает, что сами западные теоретики тоталитаризма были свободны от влияния собственных политических взглядов[9]). То, что концепция тоталитаризма была нужна российской оппозиции как инструмент критики советского режима, ясно видно из рассуждений известного диссидента В.К. Буковского, пользовавшегося уважением многих "демократических" групп, хотя в изучаемый период он и не состоял ни в одной из них (В.К. Буковский покинул СССР в 1976 г.)[10]. В.К. Буковский начинает свою статью о тоталитаризме со следующего четкого утверждения: "Чтобы определить, что такое тоталитаризм, обычно приходится сочинять длинный теоретический трактат или не менее длинное описание властных структур и общественных институтов в тоталитарном государстве. Это трудная и неблагодарная задача: такие ученые определения, оставаясь непонятными для неспециалистов, вдобавок не могут передать самую сущность исследуемого предмета - его крайнюю негуманность, его опасность для человечества, и степень ужаса и отчаяния, которые испытывают те несчастные народы, что оказались в его ловушке "[11]. Российских "демократов" больше интересовал не холодный анализ источников и характерных особенностей тоталитаризма, а его моральное осуждение. Они проводили "классовый анализ" советского тоталитаризма не только потому, что такой подход был им хорошо знаком, но и потому, что в данном случае (как и в рамках коммунистической идеологии) за фасадом ученой терминологии скрывалось моральное осуждение. Имея это в виду, легко объяснить, почему другие подходы к советскому обществу, такие, как теории плюрализма, корпоративизма или индустриального общества, не оказали большого влияния на российских "демократов" и советскую оппозицию в целом. Самый ранний из таких альтернативных политических подходов, теория об индустриальном (или новом индустриальном) обществе и идея конвергенции двух систем применялись к Советскому Союзу уже в 1950-х гг. А. Инкелесом и Р. Бауэром, отмечавших в советском и западном обществах некоторые общие фундаментальные черты. По их мнению, несмотря на крайние различия механизмов власти, политических режимов и ситуации с правами личности, эти различия были менее глубокими, чем характерное для обеих систем историческое движение в сторону индустриального развития. Предполагалось, что с течением времени поверхностные политические различия исчезнут, и более объективные законы индустриального развития заставят двигаться общества обеих типов в одном направлении[12]. Согласно теории конвергенции, общество будущего приобретет черты не только западной демократии, но и советского социализма, и, следовательно, не только СССР должен двигаться в сторону западных свобод, но и западному обществу с его рыночной экономикой необходимо двигаться в сторону повышения роли планирования, государственного регулирования и концентрации экономики. С точки зрения большинства российских "демократов" (за исключением крайних левых и анархистов, находившихся в заметном меньшинстве), любые теории, согласно которым СССР и западный мир принадлежат к одному типу общества и развиваются в одном направлении, затушевывали принципиальное противостояние добра и зла[13]. Как ни парадоксально, острое ощущение противостояния двух систем, которое коренилось в марксистском образовании российских "демократов" и подпитывалось их борьбой против советского режима, в структурном плане весьма напоминало одновременно и самые ультраправые западные подходы к СССР, и официальную советскую идеологию: и там, и там предполагалось, что две системы принципиально противоположны и обречены на противостояние. Советские власти благоволили многим западным сторонникам теории конвергенции и нового индустриального общества, так как те обычно поддерживали брежневскую политику разрядки, в которой видели практический шаг к сближению двух обществ. Поэтому, хотя эти теории официально объявлялись "буржуазными фальсификациями", работы их авторов переводились и издавались в постсталинском СССР.[14] В то же время термин "тоталитаризм" вплоть до периода гласности запрещалось применять даже к странам, не входившим в советский блок. Вследствие этого российские оппозиционные деятели избегали концепции конвергенции, а запрещенная концепция тоталитаризма становилась еще более популярной. По тем же причинам более поздние попытки использовать концепцию плюрализма в теориях о советском обществе также не могли привлечь российских "демократов". Хотя эта теория не утверждала о движении западного общества в сторону советского коммунизма, в отношении СССР ее сторонники использовали термин "плюрализм", который в советском обществе уже давно ассоциировался с западной демократией. Таким образом, советская и западная системы рассматривались как принадлежащие к одному типу. Один из наиболее активных сторонников этой теории Дж. Хаф утверждал, что нашел "в советском обществе аспекты плюрализма"[15] и указывал, что "если рассматривать советскую и западную политические системы как разные типы плюралистических систем, то мы должны исследовать относительное влияние тех аспектов плюрализма, которые являются для них общими, и тех, которые различаются"[16]. Использование понятия плюрализма для определения советского общества имеет несколько характерных аспектов. Политологи определяют плюрализм по-разному. Совершенно ясно, что самое короткое из определений, согласно которому "плюралистическое государство" - такое, где существует "много политически значимых групп с взаимопересекающимся членством",[17] не соответствует советской реальности. Но даже попытки применить к СССР более широкую версию "организационного плюрализма" Р.Даля и аналогичные концепции "институционального плюрализма", "бюрократического плюрализма" или "институционализированного плюрализма" Дж. Хафа, которые, относя советское и западное общества к одному типу, одновременно указывают на существенные различия между ними, не могли удовлетворить российских "демократов". Например, согласно Р. Далю, институциональный плюрализм - это "наличие плюрализма относительно автономных (независимых) организаций (подсистем) внутри государственной системы"[18]. С точки зрения большинства "демократов", такое определение советской системы скрывало бы абсолютную власть класса номенклатурной бюрократии. Следует отметить, что официальные советские идеологи до периода гласности точно так же считали плюрализм буржуазной теорией, используемой в качестве камуфляжа господства буржуазии в "капиталистических" странах[19]. "Демократы", в отличие от официальных идеологов, считали существующее западное демократическое общество реальным и единственно возможным примером плюрализма, но они явно унаследовали от официального советского марксизма некоторые фундаментальные принципы анализа советской реальности. Другим неприемлемым для "демократов" аспектом была идея о том, что СССР в своем развитии движется в верном направлении вместе со всем миром, что подразумевали теории плюрализма и нового индустриального общества. Это вполне понятно в свете их политической позиции. Требования усилить борьбу с режимом и использовать все более радикальными методами, диктовавшиеся внутренней логикой развития движения, было бы невозможно оправдать теорией, которая предсказывала, что ненавистное общество исправится и без этой борьбы. Аргументы многих сторонников теории тоталитаризма, согласно которой хрущевские и горбачевские реформы были направлены на обман общественного мнения и сохранение тоталитарного строя, и поэтому не сильно отличались от сталинской политики, гораздо лучше отвечали потребностям оппозиции. Вот почему, как показано выше, в документах и речах "демократических" активистов часто содержались утверждения, что при М.С. Горбачеве коммунистический режим не отказался от своих прежних методов, и даже еще более радикальные заявления, о том, что М.С. Горбачев ничуть не лучше И.В. Сталина с Л.И. Брежневым и даже хуже их. Парадоксально, но именно теоретическое наследие марксизма в сочетании с логикой оппозиционной борьбы подталкивали российских "демократов" к наиболее ультраправым западным подходам и точкам зрения. Не случайно авторы и сторонники теории тоталитаризма на Западе (например, З. Бжезинский) чаще всего поддерживали жесткую правую политику по отношению к СССР, в то время как приверженцы конвергенции и плюрализма (Дж. Гэлбрейт и Дж.Хаф) выступали за разрядку и сотрудничество.[20] По аналогичным причинам попытки применить к советскому обществу другие теории и концепции - "корпоративизм", "группы давления", "конкурирующие элиты" и пр. - также не встречали сочувствия у российских "демократов". Корпоративизм, например, определялся Ф. Шмиттером как "система посредничества интересов, в которой составные единицы организованы в ограниченное число отдельных, обязательных, неконкурирующих, иерархически выстроенных и функционально различающихся категорий, признанных или лицензированных (а то и созданных) государством, которым специально предоставляется представительская монополия по их категориям в обмен на соблюдение определенных правил при отборе своих лидеров и выражении своих требований и поддержки".[21] Это определение, как и концепция плюрализма, первоначально не относилось к СССР, но некоторые авторы применяли его к советскому обществу[22]. Российские "демократы" сказали бы, что эта модель наделяет отдельные институты государственной власти слишком большой автономией от центра, предполагая, что советское общество аналогично любому диктаторскому или авторитарному режиму. Это не слишком подходило тем, кто рассматривал свою борьбу с советским режимом как битву против главных сил мирового зла, сравнимых только с фашистской Германией. Поиск "групп давления" и "конкурирующих элит"[23] не мог удовлетворить "демократов", поскольку он, как и поиск плюрализма и корпоративизма, предполагал большую степень децентрализации власти в СССР и растущую роль различных фракций и групп. "Демократы" видели советское общество четко разделенным на две противоположные группы: в целом единый бюрократический класс, обладавший монопольной властью над всей собственностью, средствами производства и государственными органами, и притесняемый "народ", полностью лишенный каких-либо прав. Поэтому термин "элита" обычно использовался "демократами" для обозначения не какой-то фракции в рамках правящего класса, а всего "класса" партийных и государственных чиновников. Широкое использование термина "тоталитаризм" в среде российских "демократов", естественно, не означало, что они были хорошо знакомы с политологическими концепциями о советском обществе и сделали сознательный выбор. Эти теории чаще всего доходили до них благодаря средствам массовой информации, официальной марксистской литературе и советским перестроечным сочинениям, нередко в искаженном и бессистемном виде. Тем не менее этот выбор ни в коем случае не был случайным: его обусловили уже существовавшие взгляды "демократов" и то, как они сами понимали цели своей политической деятельности. 8.2. Представления российских "демократов" и современные теории демократииПри сопоставлении "демократических" представлений с современными теориями демократии может возникнуть две трудности. Во-первых, сложно сравнивать не четко структурированную систему представлений, которая может быть реконструирована лишь как модель, с хорошо структурированными и глубоко разработанными теориями. Во-вторых, не существует какой-либо одной наиболее влиятельной теории. Сегодня ситуация остается такой же, какой ее описывал Р. Даль еще в 1956 г.: "нет одной теории демократии - есть только теории демократии"[24]. Хотя изучение демократии с тех пор продвинулось далеко вперед, разногласий в этой области сохраняется не меньше, чем в то время[25]. Почти сорок лет спустя Р. Даль высказал мнение, что демократия – это "не столько термин с определенным и конкретным значением, сколько неопределенное выражение поддержки популярной идеи"[26]. В недавней работе Дж. Хайленд указывает, что "хотя сами термины "демократия" и "демократический" и несут с собой всеми уважаемый смысловой оттенок легитимности, существуют самые различные и часто несовместимые трактовки природы демократии и причин, по которым она является такой желанной формой правления"[27]. В своем фундаментальном исследовании Дж. Сартори указывает на то, что смысл понятия "демократия" в таких словосочетаниях, как "политическая демократия", "социальная демократия", "индустриальная демократия" и "экономическая демократия", значительно различается. По его мнению, последние три концепции введены недавно: "Слово demokratia возникло в V в. до н.э., и с того времени приблизительно до второй половины ХIX в. оно было политической концепцией"[28]. Дж. Сартори отмечает, что первые исследования социальной демократии предприняли А. де Токвиль и Дж. Брайс, которые понимали демократию скорее как состояние общества или как "этос и образ жизни" (Брайс), чем как политическую форму. В соответствии с этим пониманием социальная демократия - "общество, этос которого требует от его членов считать себя равноправными в социальном отношении[29]. Социальная демократия в этом смысле связана с первичной демократией, т. е. "небольшими общинами и добровольными организациями, которые могут процветать повсюду в обществе, создавая тем самым общественный каркас и инфраструктуру для политической надстройки"[30]. В этом плане Дж. Сартори отмечает различие между социальной демократией, характеризующим элементом которой является ее спонтанность и эндогенная природа, и социалистической демократией, которая есть "политика, навязываемая обществу социалистическим государством"[31]. Термин "индустриальная демократия", сформулированный С. и Б. Уэбб в конце XIX в., подчеркивает необходимость рабочего самоуправления и важность того, чтобы сами рабочие управляли фабриками и заводами как базисными структурными элементами демократии. "Экономическая демократия" может употребляться приблизительно в том же значении, означать равенство в области контроля над производительными силами. Однако это понятие может иметь и другой смысл, означая демократию, "направленную на перераспределение богатства и уравнивание экономических возможностей"[32]. Но даже при использовании в политическом значении демократия понимается политологами совершенно по-разному. Р. Даль, например, выделяет три типа концепций демократии: Мэдисоновская демократия, подчеркивающая важность системы конституционных сдержек и противовесов, направленных на предотвращение "тирании большинства"; популистская диктатура, представляющая собой неограниченное усиление народного контроля над правительством посредством широкого применения принципа большинства; и полиархическая демократия, делающая упор не столько на конституционные, сколько на социальные сдержки и противовесы[33]. Б. Холден выделяет пять типов теорий демократии: радикальная (древнегреческая); новая радикальная, связанная с новым радикализмом 60-х годов ХХ века; плюралистическая, описанная, в частности, в работах Р.Даля; элитарная, сформулированная такими авторами, как Й. Шумпетер; и либеральная, охватывающая сочинения мыслителей от Дж. Локка до А. де Токвиля и Дж. С. Милля[34]. Во многих случаях взгляды политических теоретиков тесно связаны с их политическими предпочтениями. Так, сторонники современных западных систем, такие, как Й. Шумпетер, приравнивают демократию к существующим институтам и процедурам. Хорошо известное определение Й. Шумпетера описывает демократический метод как "институциональное устройство для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирателей"[35]. Это определение является точным и дает "достаточно эффективный критерий, при помощи которого демократические правительства можно отличить от прочих"[36]. В то же время, его применение в сочетании с предложением Й. Шумпетера предоставить самому обществу право решать, кто входит в состав избирателей, лишает древние Афины (где большинство должностных лиц назначалось по жребию) права называться демократией, но одновременно дает возможность назвать демократическим любое общество, которое управляется более чем одним лицом, если правящая группа сама выбирает своих лидеров[37]. При сравнении позитивных установок российских "демократов" по отношению к демократии с различными теоретическими концепциями демократии выявление различий становится более затруднительным. Как отмечалось в Главе 6, российские "демократы" связывали демократию со свободой, социальной справедливостью, благосостоянием и личным совершенством. Приведенный выше краткий очерк демократических теорий показывает, что все эти характеристики демократии можно найти по крайней мере в некоторых из упомянутых теорий. Однако есть и существенное различие. Хотя эти интерпретации демократии встречаются во многих теориях, некоторые из этих теорий противоречат друг другу и критикуют одна другую. Например, те, кто рассматривают демократию главным образом как систему, предназначенную для сохранения либерализма, очень часто, хотя и не всегда, вступают в спор с теми, кто на первое место ставят справедливость или совершенство личности. В России же все эти представления сосуществовали в рамках одной политической субкультуры. Конечно, дискуссии о том, какую роль при демократии должно играть государство и какой должна быть централизованная власть, велись и здесь. Все подобные вопросы составляют часть политической борьбы в современной демократии. Однако разные ответы на эти вопросы, дававшиеся различными группами российских "демократов", не приводили к организационным разграничениям, или, по крайней мере, не мешали (до определенного момента) группам, придерживавшимся различных мнений, участвовать в общей борьбе за "демократию" против существующего режима. Водораздел в российской политике того времени проходил не между сторонниками и критиками активной роли государства в будущем демократическом Советском Союзе; не между сторонниками и противниками государства всеобщего благоденствия, и не между теми, кто видел в демократии неограниченную свободу, и теми, кто понимал ее как народное самоуправление без государственности или как реализацию творческого потенциала личности. Он проходил между теми, кто поддерживал существующий режим, и теми, кто выступал против него. Поэтому не было ничего необычного в том, что в одной и той же "демократической" группе или "партии" работали люди, которых на Западе называли бы социалистами, анархистами и неолибералами, и которые там наверняка состояли бы в разных группах и были бы непримиримыми политическими противниками. Российский "демократ" был "демократом", пока он отвергал "тоталитаризм", а следовательно, выступал за "демократию". Конкретный тип демократии, за который он выступал, конечно, имел некоторое значение, однако это было несущественно по сравнению с решительной антитоталитарной позицией, и в большинстве случаев не являлось причиной для вступления в какую-либо конкретную группу. Основным был уровень противостояния властям и согласие с конкретным видом оппозиционной деятельности. Например, самые осторожные и умеренные "антитоталитаристы" присоединялись к группам типа Демократической платформы КПСС, что во многих (но не во всех) случаях означало не общность взглядов на коммунизм, социализм, плановую экономику или роль государственной системы социального обеспечения, а скорее то, что по крайней мере на этом этапе они верили в возможность сотрудничества с партийными реформаторами. Наоборот, люди, полностью разочаровавшиеся во властях и предпочитавшие активные прямые действия - митинги, демонстрации, голодовки - вступали в Демократический союз[38]. В принципе такие противоречивые представления (с западной, или теоретической, точки зрения) вполне могли уживаться в голове одного "демократа", для которого возможные противоречия либо не существовали, либо казались несущественными по сравнению с великой и неотложной задачей по уничтожению тоталитаризма. Важно также учитывать, что реальная возможность выбирать между реформаторами-коммунистами, социалистами, анархистами и либералами у рядового "демократа" имелась только в Москве (и, может быть, в Ленинграде), где существовало множество "демократических" групп с различными названиями. В большинстве других городов выбор был ограничен, либо вообще не существовал. В результате для борьбы с режимом приходилось вступать в группу, название которой было выбрано случайно или, как в случае с владивостокским отделением Социал-демократической партии РФ (члены которой в действительности были радикальными либералами и впоследствии поддерживали реформы Гайдара), исходя из нежелания слишком сильно раздражать власти[39]. Сосуществование потенциально противоречивых идеалов и целей в рамках одной системы представлений становилась возможной благодаря доминированию одного представления над всеми другими. В данном случае это было представление о том, что отсутствие свободы, справедливости, благосостояния и совершенства личности вызвано существованием и политикой тоталитарного государства, уничтожение которого откроет путь переменам. Данное представление, естественно, влияло на интерпретацию российскими "демократами" этих компонентов демократии, делая ее отличной от других. Как известно, И. Берлин делил все концепции свободы на негативные и позитивные. С этой точки зрения можно сказать, что российские "демократы" выступали за негативную свободу, так как для них свобода, как отмечалось в главе 6, была свободой от принуждения со стороны тоталитарного государства. Однако этим их отношение к свободе определяется не полностью. Согласно И. Берлину, негативная политическая свобода - это "та область, в рамках которой человек может действовать, не подвергаясь вмешательству со стороны других. Если другие люди не позволяют мне сделать то, что в противном случае я мог бы сделать, то в этой степени я несвободен; если из-за действий других людей упомянутая область сжимается, уменьшаясь далее до известного предела, то обо мне можно сказать, что я нахожусь в состоянии принуждения и, возможно, даже порабощения"[40]. Интерпретация российских "демократов" отличалась от этого определения акцентом на государственном принуждении. Данная И. Берлином западная интерпретация негативной свободы не различает, кто притесняет личность: государство, другая личность, или группа. Российские же "демократы" считали главным источником притеснения, к которому они привыкли и подвергались еще со школы, почти исключительно государство, и только те из них, кто мыслил социалистическими категориями, могли в редких случаях обсуждать крайне отдаленную и чисто теоретическую возможность того, что источниками притеснения станут отдельные лица или негосударственные группировки. Более того, поскольку официальная коммунистическая пропаганда отводила роль главных источников подавления свободы в западных демократиях частным монополиям и классу капиталистов, российские "демократы", видевшие в этих демократиях свой идеал, не верили властям и не думали о возможности подавления свободы со стороны частных сил. Поскольку главной помехой свободе считалось тоталитарное государство, расцвет свободы, который должен был наступить после его уничтожения, в глазах "демократов" никак не мог противоречить справедливости или равенству. Хотя среди российских "демократов" был очень популярен антигосударственный и антитоталитарный задор в духе Ф. Хайека, мало кто знал о подчеркивавшемся Ф. Хайеком противоречии между свободой и равенством: "Великой целью борьбы за свободу было равенство перед законом… Равноправие относительно общих норм закона и поведения, однако, является единственным видом равенства, ведущим к свободе, и единственным видом равенства, которое можно обеспечить, не уничтожая свободу. Свобода не только не имеет никакого отношения к другим видам равенства, но во многих отношениях даже обречена на воспроизводство неравенства. Это неизбежный результат и одно из оправданий свободы личности: если существование свободы личности не демонстрирует, что какой-то образ жизни ведет к большему успеху, чем другой, то большинство доводов в ее пользу перестают работать"[41]. Как показано в главе 6, многие российские "демократы" видели основу демократии в гораздо более широком равенстве, чем простое равенство перед законом. В сущности, одним из их ключевых требований было экономическое равенство; именно это требование обеспечило им общественную поддержку. Однако российские "демократы" подходили к вопросам экономического и политического равенства с совершенно иной стороны, чем те западные теоретики, которые жили в условиях конкуренции между отдельными личностями (которой, с точки зрения некоторых из этих теоретиков, только начинает угрожать растущая мощь государства). Жизнь при тотальном государственном контроле вела к зарождению совершенно иных представлений. Отношение российских "демократов" к равенству следует рассматривать в рамках их общих представлений об обществе, в котором они жили. Согласно этим представлениям, главным врагом свободы и равенства было тоталитарное государство, и в вопросе равенства это проявлялось в создании правящего класса номенклатуры, члены которого пользовались привилегиями как в юридической, так и в экономической сферах. Эти два типа привилегий не рассматривались как различные и не связанные друг с другом: привилегия неподсудности высших партийных и государственных чиновников в рамках обычной системы правосудия рассматривалась как неразрывно связанная с привилегией покупать качественные товары по низкой цене в закрытых распределителях и проводить отпуск на курортах для избранных. Замена тоталитаризма демократией понималась российскими "демократами" как упразднение классовых и должностных привилегий; поэтому им было трудно понять, почему, как утверждает Ф. Хайек, "любая политика, непосредственно направленная на действительный идеал равенства в распределении, неизбежно ведет к уничтожению верховенства закона "[42]. Конечно, это не означает, что большинство российских "демократов" были социал-демократами в западном смысле, хотя некоторые из них в чисто теоретическом плане симпатизировали идеям о том, что за политической демократией должна следовать экономическая демократия, материальное неравенство должно быть ограничено, а общество должно помогать беднейшим. Однако это не означало, что российские "демократы" разделялись на сторонников социал-демократии или консерватизма в современном европейском смысле (или либералов и правых в современной американской терминологии). Такое деление подразумевает сознательный выбор между увеличением или уменьшением экономической роли государства. Чтобы сделать этот выбор, необходимо различать и понимать эти альтернативы, а для этого требовался некоторый опыт жизни при рыночной экономике. Российские "демократы", не зависимо от того, считали ли они себя либералами или социал-демократами, не видели этой альтернативы в реальной жизни и не задумывались над ней; такой выбор не был для них актуален. Они различались по своему отношению к методам построения демократии: "либералы" выступали за полное уничтожение государства, думая, что новая демократическая структура вырастет естественным путем; "социалисты" выступали за более плавный переход и частичное использование существующих государственных структур. Но эта разница была скорее тактической, чем идеологической. Она не означала, что "либералы" сознательно предпочли свободу и формальное верховенство закона социальному равенству, потому что соглашались с Ф. Хайеком в том, что "к разным людям нужен разный подход, чтобы получить один и тот же результат[43]. Они полагали, что только радикальное уничтожение старой системы - лучший и скорейший путь построения демократии, которая представляет собой свободу (от государственного принуждения), равенство и верховенство закона (поскольку исчезнут номенклатурные привилегии). В то же время они либо не желали замечать опасность возможного покушения на свободу со стороны частных лиц и возникновения личного неравенства, считая, что ее намеренно преувеличивает официальная пропаганда, либо считали, что эти проблемы как-то разрешатся сами собой в будущем демократическом раю, как это, по их мнению, уже произошло на процветающем Западе. В этой связи можно утверждать, что идея социальной справедливости, составлявшая ключевое требование как российских коммунистов, так и российских "демократов", была вывернута "демократами" наизнанку: из требования равенства граждан в их отношениях друг с другом, которое в качестве арбитра будет обеспечивать коммунистическое государство-партия, оно превратилось в требование равенства угнетенного класса и класса-угнетателя. Гарантированное государством равенство превратилось в радикальное антигосударственничество. Радикальный отказ от старого государства, однако, не обязательно означал, что отвергалось государство как таковое. Некоторые "демократы" говорили о необходимости сильного демократического государства. Были среди "демократов" и сторонники "минимального государства". Но этот вопрос не был существенным: поскольку победа над всемогущим тоталитарным государством казалась делом далекого будущего, не имело большого значения, какое государство создавать после этой победы. Это вело к уникальной ситуации: вера в минимальное государство последователей Р.Нозика[44] и в "справедливость как честность" (justice as fairness) Дж. Ролза[45], приверженность либеральному Rechtstaat (правовое государство) и gerechte Staat (справедливое государство, термин нацистского теоретика права К. Шмитта)[46], могли сосуществовать в одной и той же российской "демократической" программе, среди членов одной группы и даже в системе представлений отдельного "демократа". Только после первых "демократических" попыток перехода к рынку и ограничения роли государства противоречие между попытками устроить жизнь в России "как на Западе" (как это понималось) и радикальными требованиями социальной справедливости стало проблемой для "демократических" активистов. Но даже тогда продолжающееся присутствие главного врага еще объединяло "демократов", а реальные споры и расколы из-за выбора между "равенством" и "свободой" начались после начала гайдаровских реформ, которые привели к неслыханному в СССР неравенству. Идеалы благосостояния и совершенства рассматривались аналогичным образом. Российские "демократы" считали, что единственное препятствие для достижения этих целей - тоталитарное государство. Точно так же, как коммунисты утверждали, что процветание и самореализация каждой личности станут возможными после уничтожения класса эксплуататоров-капиталистов, а современные утописты полагают, что развитие современной технологии даст людям больше свободного времени для размышления над животрепещущими вопросами жизни, так и российские "демократы" верили, что после исчезновения тоталитарного государства-угнетателя все станет возможным. Поэтому российским "демократам" было трудно согласиться с попытками некоторых западных теоретиков отделить демократию от индивидуальной свободы или индивидуальную свободу от процветания, и утверждениями, что "между индивидуальной свободой и демократическим правлением нет необходимой связи"[47], или что "мы можем быть свободны и все-таки несчастны"[48]. Для них демократия была не только системой процедур, но целым образом жизни, которым живет "западная цивилизация", и который они понимали как обеспечивающий одновременно и свободу, и справедливость, и благосостояние и создающий наилучшие условия для самореализации личности и счастья. Такое широкое понимание демократии вело к некритическому принятию демократических процедур как части этого образа жизни, причем, по мнению многих, основной части. В этом отношении российские "демократы" находились ближе к тем западным теоретикам, которые выступают за максимальное расширение демократии посредством более полного применения принципа правления большинства и не особенно обеспокоены опасностью тирании большинства. Линия аргументации, направленная против неограниченного правления большинства, идущая от Платона и Аристотеля, через Дж. Мэдисона, А. де Токвиля, Дж. С. Милля к современным теоретикам, таким, как Й. Шумпетер и Р. Даль, предупреждающая об опасности упрощенного применения принципа правления большинства и предлагающая различные меры для его ограничения и уравновешивания, не могла быть принята или хотя бы внимательно обдумана российскими "демократами", главной задачей которых было разрушить систему несправедливого правления меньшинства. Такой системе было совершенно логично противопоставить принцип правления "народа", и "демократы" полагали, что если дать "народу" возможность выбора, он естественным образом выберет демократию, поскольку сами "демократы" считали ее не только справедливой, более эффективной и предпочтительной, но также естественной и исторически неизбежной. В то же время было бы не совсем верно говорить, что российские "демократы" во всех случаях защищали принцип правления большинства. Вопрос о правах меньшинства также поднимался ими. Но обычно эти права противопоставлялись правлению большинства не по причине беспокойства по поводу тирании большинства, как в вышеупомянутых теориях. Как и в случае других "демократических" взглядов, выдвижение того или иного принципа служило одной главной цели: уничтожению существующего режима. Например, поскольку население и СССР, и РСФСР с большой вероятностью проголосовало бы против кремлевского режима, "демократы" выступали решительными сторонниками выборов и референдумов практически по каждому серьезному политическому вопросу. Однако это не относилось к вопросу выхода союзных республик из состава СССР, и автономных республик - из РСФСР. Поскольку некоторые видели в распаде СССР сужение территории тоталитаризма и, следовательно, удар по последнему, они критиковали предложение М.С. Горбачева проводить референдум по вопросу об отделении республик по всей стране, а не только в заинтересованных республиках, так как, население всего СССР скорее всего проголосовало бы против отделения, скажем, Украины. Они также резко критиковали довольно демократическое предложение Кремля провести в республиках, желающих отделиться, три последовательных референдума в течение пятнадцати лет, поскольку, с их точки зрения, этот процесс занял бы слишком много времени, и его результаты было трудно предвидеть. В некоторых случаях выдвигались аргументы даже против референдума в одной республике, население которой не слишком хорошо понимало важность ослабления московского тоталитаризма путем отделения от него. В целом на "демократическое" отношение к референдумам было обусловлено необходимостью решения задачи, рассматриваемой в качестве основной: уничтожения советского "тоталитаризма" и коммунистической "империи". Наглядным примером такой аргументации может служить дискуссия между двумя ведущими членами фракции "Демократическая Россия" в Верховном Совете РСФСР М.Г. Астафьевым и А.Е. Шабадом. Их позиции по поводу будущего СССР и России были диаметрально противоположными. М.Г. Астафьев выступал за сохранение единого государства, которое включало бы как минимум территории РСФСР, Украины, Белоруссии и Казахстана[49]. Он также поддерживал позицию Первого Съезда Народных депутатов РСФСР о том, что автономные республики могут получить независимость от России только в случае положительного решения всероссийского референдума, и что российское правительство должно предоставить равные права самоуправления как национальным республикам, так и областям и краям. Позиция А.Е. Шабада по этим вопросам была полностью противоположной. Он указывал, что помимо "великой идеи" всеобщего равенства вне зависимости от национальности, "кроме прав самой личности, есть еще права, проистекающие из ее национальной принадлежности"[50]. Исходя из этого, он требовал, чтобы национальные республики имели больше прав, чем регионы с большинством русского населения, и поддерживал горбачевский Союзный Договор, дающий равный статус российским автономным республикам и республикам СССР (включая право на отделение). Как могли два таких разных человека участвовать в одном движении? Это было возможно до тех пор, пока, помимо разделявших их представлений, существовало одно сильное убеждение, которое их объединяло. Это была вера в необходимость "демократии", т. е., согласно их пониманию, в необходимость покончить со старым советским тоталитарным государством и построить на его месте что-то другое (хотя по поводу этого "другого" мнения сильно различались). Если внимательно прочитать аргументы обоих "демократов", можно заметить, что оба рассматривали свою позицию как наилучший способ осуществления этой цели. Астафьев указывал, что независимость РСФСР от Союза будет нелепостью, пока все ресурсы, включая армию и государственный бюджет, контролирует союзное правительство. Следовательно, аргументировал он, децентрализация должна быть постепенной, и права самоуправления нужно передавать республикам и регионам поэтапно. В противном случае эти права окажутся в руках либо старой местной номенклатуры, либо так называемых "национал-демократических" движений, которые, по словам М.Г. Астафьева, в первую очередь национальные, "и только во вторую, а то и в пятую - демократические"[51]. В качестве примера он приводил украинский "Рух", представители которого поделились с М.Г. Астафьевым своими планами ввести обязательное использование украинского языка даже в русскоязычных регионах республики и выступали против референдумов об автономии этих регионов. А.Е. Шабад же, наоборот, выступал за немедленное уничтожение империи. Он соглашался, что местные коммунистические правители могут использовать новые права, которые предусматривалось предоставить автономным республикам по Союзному Договору, в собственных интересах, но полагал, что если их не предоставить, местные коммунисты еще сильнее укрепят свое положение, представляя себя как силу, выражающую национальные чаяния. В отличие от Астафьева, его не беспокоили недемократические тенденции в "национал-демократических" движениях; он видел в них союзника российских "демократов", поскольку для него главным показателем их демократического характера был их антиимперский и антицентристский (в смысле центра "империи") потенциал[52]. Хотя позиции А.Е. Шабада и М.Г. Астафьева по поводу будущего России и СССР резко различались, оба разделяли веру в демократию (как они ее понимали) и в необходимость уничтожения (более или менее быстрого) недемократического тоталитарного центра. Пока этот центр существовал, они могли сотрудничать, но когда он исчез, и главным вопросом стало не разрушение, а строительство, они неизбежно должны были обнаружить, что у них больше нет ничего общего. Именно так и произошло в действительности, когда А.Е. Шабад стал одним из наиболее последовательных сторонников реформ Е.Т. Гайдара, а М.Г. Астафьев оказался в "национал-патриотическом" лагере, яростно критиковавшим гайдаровскую политику. Наличие в "демократической" политической субкультуре нескольких пониманий "демократии" не означает, что все российские "демократы" с равной силой верили, что демократия принесет свободу, социальную справедливость, благосостояние и личное совершенство (в вышеописанной интерпретации). К некоторым это можно было отнести в полной мере, другие делали акцент лишь на отдельных идеалах; а кто-то стремился к единственному идеалу, например, к социальной справедливости или свободе. Но даже последние не видели большого противоречия в том, чтобы верить во все эти идеалы сразу и, разумеется, не считали тех, кто делал упор на другие аспекты демократии, своими оппонентами. Все они видели друг друга союзниками в борьбе против тоталитаризма, что на том этапе имело гораздо большее значение. То же самое идеалистическое видение демократии определяло различия между подходами российских "демократов" и западных теоретиков демократии к внешней политике. Как показано в главе 7, российские "демократы" отказывали в существовании тем внешнеполитическим интересам, которые не были связаны с интересами внутренней и мировой демократизации. Такие идеи, как интересы безопасности, геополитические расчеты, баланс сил и национальные интересы, которые в большинстве теорий международных отношениях рассматриваются как более или менее независимые от внутренней политики страны и от характера правящего режима, либо игнорировались "демократами", либо оценивались в зависимости от задачи демократизации. Поскольку "демократические страны не угрожают друг другу", единственно возможным способом защиты национальных интересов России и ее безопасности виделось построение демократии и вхождение в демократический мир. Считалось, что успех в выполнении этой задачи автоматически приведет к решению международных проблем. Несмотря на очевидное сходство между отдельными представлениями российских "демократов" о российском обществе и "демократии" и современными западными теориями демократии, система "демократических" представлений в целом сильно отличалась от любой западной теории. Даже когда использовалась терминология западных политологов или концепции, распространенные в западной политической философии, они подвергались реинтерпретации, и их значение в российском контексте изменялось. 8.3. Преемственность, изменения и российская политикаУже в период зарождения российской историографии ученые пытались выяснить, в какой степени представления русских людей определяются иностранными теориями и культурами. Россия, в противоположность некоторым цивилизациям Азии и Америки, которые долгое время развивались без значительных внешних влияний, всегда была открыта различным культурным воздействиям, в том числе приходящим с Запада. Выделить какое-то исконно русское или хотя бы исконно славянское ядро российской культуры крайне затруднительно. В сущности, под эту категорию может подойти только дохристианская языческая культура, но, несмотря на растущий интерес к этому периоду и обнаруживаемые многими исследователями языческие корни некоторых народных обрядов более поздних веков вплоть до недавнего времени, о политических представлениях языческого периода сделать какие-либо выводы пока крайне затруднительно из-за фактического отсутствия серьезных исследований[53]. Первый же упомянутый в летописях полумифический политический акт жителей Древней Руси - приглашение варягов - стал источником дискуссии о соотношении местных и заимствованных элементов в российской политической культуре. Варяжская теория возникновения русского государства, преобладавшая в российских исторических теориях, начиная с XVIII в., впоследствии была признана ошибочной, и сегодня большинство специалистов согласны, что влияние культуры викингов на древнерусское общество было весьма ограниченным[54]. Принятие христианства означало фундаментальную культурную трансформацию - заимствование целого набора культурных категорий и культурного языка у православной Византийской империи. Однако это не означало, что русская культура стала византийской. Как писал В.Е. Вальденберг в своем классическом анализе древнерусской политической мысли, "византийское влияние на русские учения о пределах царской власти не могло породить какое-нибудь одно направление, которому следовало бы присвоить название византийского. Византия могла дать русским мыслителям толчок для развития и материал для обоснования самых различных учений о царской власти – которые все с одинаковым основанием могут быть названы (или не названы) византийскими)"[55]. Если это верно для такого раннего периода, когда российская цивилизация еще не окрепла, то это тем более верно в случае более поздних западных влияний. Насильственное распространение западных ценностей и форм при Петре I, в результате чего российская политическая культура приняла европейский политический язык и терминологию, вовсе не означало полной вестернизации. Кроме того, так как западная культура того времени была гораздо менее единой, чем византийская культура, то российские мыслители могли применять совершенно разные, а иногда и противоположные, западные теории для подкрепления собственных идей, которые, по их мнению, подходили для России. Как и в случае с Древней Русью, за границей можно найти теоретические истоки самых различных течений более поздней российской политической мысли[56], но источником конкретных политических требований и предложений представителей этих течений были российские политические реалии соответствующего периода. Существует много указаний на то, что западные политические идеи адаптировались российскими политическими мыслителями и политическими активистами более позднего времени таким же образом, как иностранная политическая культура адаптировалась в более ранние эпохи. Например, хотя русские народники воспитывались на западной социалистической литературе и имели некоторые общие черты с революционно-романтическими движениями, распространенными в то время по всему миру, вряд ли можно сомневаться в уникальности этого движения и того, как его активисты интерпретировали социалистические теории. В.Н. Фигнер, одна из лидеров наиболее радикальной террористической группы народников, "Народной воли", в своих воспоминаниях очень четко описывает, как на эту интерпретацию влияли предшествующие взгляды. Особо отмечая глубочайшее влияние чтения "Капитала" К. Маркса, с которым она впервые ознакомилась в 1881 г., В.Н. Фигнер замечает: "Оно произвело на меня исключительное по своей силе впечатление: это было, можно сказать, мое второе крещение в социализм. Пламенное красноречие К. Маркса огненными словами запечатлевало в памяти моей целые страницы… Сознание, что за нами, слабыми единицами, стоит могущественный исторический процесс, наполняло восторгом и создавало такую прочную опору для деятельности личности, что казалось, все трудности борьбы будут побеждены. Я не пересматривала все свои прежние взгляды, все прежние влияния на мой ум, не перерабатывала наново мои воззрения на основах теории Маркса. Прежние взгляды лежали основным пластом, а вверху расположилось все, почерпнутое из книги "Капитал". И эти два слоя не перемешивались сверху донизу, но как-то таинственно объединялись, удваивая силу убеждения и решимость бороться и биться; биться теперь же, сейчас, теми средствами, которые имеешь в руках и к которым призывает окружающая действительность"[57]. Как и в случае с византийской культурой, русские люди видели в иностранной теории, которая сама по себе не была вполне последовательной, доказательство правоты своих взглядов и планов, несмотря на то, что эти взгляды и планы могли быть совершенно иными и даже диаметрально противоположными. Радикальные революционеры, такие, как В.Н. Фигнер и террористы-народники, а позже В.И. Ленин и большевики, не придавали достаточного значения "научной" части "Капитала" - утверждению К. Маркса о том, что капитализм должен естественным образом созреть для перехода к социализму. В то же время умеренные народники, такие, как Г.В. Плеханов, которые позже стали умеренными социал-демократами (меньшевиками), подчеркивали "научную" часть марксизма и старались приглушить призывы автора "Манифеста коммунистической партии" к немедленной революции. Интерпретация зарубежных интеллектуальных течений, таким образом, зависела от предшествовавших представлений и уже существовавшего видения современного общества и средств его улучшения. Нельзя сказать, что эти предшествующие представления и видение всегда были чисто русскими, или что такой механизм интерпретации был характерен только для России. Наоборот, похоже, что В.Н. Фигнер, как и В.Е. Вальденберг, описывает совершенно естественный путь адаптации новых представлений, который скорее всего свойственен не только русским. Крайне трудно представить ситуацию, в которой некто читает, например, "Капитал", не приобретя предварительно каких-то иных представлений, которые, конечно, будут влиять на его восприятие новых идей. Для понимания системы представлений недостаточно указать на внешнее влияние, поскольку такое влияние в одно и то же время может быть найдено в совершенно различных системах представлений. Необычайно важно исследование ранее существовавших представлений и механизма их синтеза с новыми представлениями. Поэтому для исследователя современной российской "демократической" субкультуры недостаточно указать на очевидный факт, что ее истоки лежат как в предшествовавшей российской, так и в западной политической мысли. Необходимо точно определить содержание различных влияний и формы преемственности и новизны, формы того самого "объединения", которое Фигнер называет таинственным. Если посмотреть на политическую субкультуру российских "демократов" в более широком контексте российской истории, она, безусловно, может быть определена как крайняя форма западничества. В этом смысле легко заметить, что некоторые из ее элементов аналогичны представлениям таких западнических политических течений, как петровские реформы, движение декабристов, либерализм кадетов и даже российский марксизм (особенно у первых социал-демократов, а также у меньшевиков). Все эти весьма различающиеся движения разделяли некоторые фундаментальные представления: понимание истории как поступательного движения к более совершенным общественным формам, взгляд на Запад как на более развитый этап в движении по этому пути и как на общество, развивающееся в верном направлении, представление о России как о стране, отстающей от развития мировой цивилизации и, возможно, даже движущейся в противоположную сторону. Первый теоретик русского западничества П.Я. Чаадаев в знаменитом первом философическом письме писал: "Но разве мы не христиане, скажете вы, и разве нельзя быть цивилизованным не по европейскому образцу? Да, мы без всякого сомнения христиане, но не христиане ли и абиссинцы? И можно быть, конечно, цивилизованным иначе, чем в Европе; разве не цивилизована Япония, да еще в большей степени, чем Россия, если верить одному из наших соотечественников? Но разве вы думаете, что в христианстве абиссинцев и в цивилизации японцев осуществлен тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который составляет конечное назначение человеческого рода?.. И поэтому, невзирая на все незаконченное, порочное и преступное в европейском обществе, как оно сейчас сложилось, все же царство Божие в известном смысле в нем действительно осуществлено, потому, что общество это содержит в себе начало бесконечного прогресса и обладает в зародыше и в элементах всем необходимым для его окончательного водворения в будущем на земле"[58]. Большинство западников полагали, что России необходимо совершить скачок, чтобы догнать Запад, и, поскольку главной причиной российской отсталости была русская культура, страна должна была позаимствовать и использовать формы западной культуры и цивилизации. Эти формы могли пониматься различно, в зависимости от того, что считалось причиной успехов западного мира. Петр I в основном хотел использовать западную технологию, западную систему образования и организацию армии. Декабристы (как и позднее либералы) мечтали свергнуть царское самодержавие и ввести западный конституционализм и другие государственные формы. Чаадаев связывал западный прогресс с католицизмом. Марксисты, такие, как Плеханов и даже на раннем этапе Ленин, утверждали, что экономический прогресс России тормозится пережитками феодализма и самодержавием, и подчеркивали необходимость развития в России экономических форм западного капитализма[59]. Но убежденность в том, что для исторического скачка необходимо заимствование каких-то западных культурных форм, присутствовала всегда. Еще большее сходство с идеями российских "демократов" легко обнаружить в представлениях тех западников, которые считали главным препятствием для такого скачка авторитарную российскую политическую систему с ее отсутствием конституционализма и демократии. Например, декабрист князь С.Г. Волконский говорил, что то, что он и его друзья "хоть мельком видели в 13 и 14 годах в Европе, породило во всей молодежи чувство, что Россия в общественном, внутреннем и политическом быте весьма отстала"[60]. Член Общества объединенных славян П.И. Борисов отмечал в 1826 г., что он был с юности "ослеплен любовью к демократии и свободе "[61]. Эти темы развивались западниками и пятьдесят и даже сто пятьдесят лет спустя. Такое сходство, однако, не означало, что представления более ранних российских западников были непосредственно заимствованы российскими "демократами", источники исторических знаний которых, как правило, ограничивались школьными и университетскими учебниками. Следовательно, возможно говорить лишь о влиянии на них российских исторических представлений через официальную идеологию, в рамках которой они обычно подвергались реинтерпретации и мало походили на оригинал. Российские "демократы", знакомясь с демократическими идеями, могли думать, что они продолжают дело декабристов или кадетов, но в действительности представление об этом деле было искажено их предыдущим идеологическим воспитанием. Это не означает, что "демократы" пытались сознательно некритически заимствовать постулаты официальных идеологий более ранних политических движений. Наоборот, иногда эти постулаты были другими или (в случае кадетов) даже противоположными. Но сама форма восприятия этих идей была обусловлена существовавшими представлениями, на которые очень сильно повлиял официальный марксизм. Следовательно, важно не искать непосредственное влияние более раннего западничества на политическую субкультуру российских "демократов", а изучать соотношение этой субкультуры с официальным советским марксизмом как идеологии, в которой проходила их социализация, и с доминирующей советской политической культурой, частью которой она являлись. Вывод настоящего исследования в том, что именно официальная советская идеология и доминирующая советская политическая культура и стали двумя основными структурными источниками системы "демократических" политических представлений, хотя отдельные представления вполне могли иметь иное происхождение. Такой вывод не исключает элемента преемственности в российской политической культуре. Определив, что непосредственным источником представлений российских "демократов" были не дореволюционные идеи, а официальная советская идеология и доминирующая советская политическая культура, настоящее исследование показывает, что преемственность по отношению к последней, по крайней мере, в данном случае, проявилась не в прямом заимствовании традиционных представлений, а в механизме адаптации новых идей. Что можно сказать об этом механизме? Исследователи политической социализации обнаружили, что политические представления в рамках данной культуры могут адаптироваться посредством как прямой, так и обратной имитации. Последняя, согласно Р. Доусону и К. Превитту, "иногда происходит у подростков, ищущих индивидуальность, которая бы отличала их от родителей и других авторитетов. При определенных условиях (когда политика имеет большое значение как для бунтующих, так и для тех, против кого бунтуют), этот процесс может существенно изменить политическую личность… Базовая динамика отказа от ценностей объекта имитации в основных чертах аналогична той, которая работает при принятии ценностей"[62]. И прямая, и обратная имитация, безусловно, характерны для механизма политического образования российских "демократов". Но ими он не ограничивается. В противном случае, "демократическая" система представлений была бы либо разновидностью официальной советской идеологии, либо, как утверждают такие авторы, как С.В. Чешко, ее точной зеркальной противоположностью. Данное исследование, однако, показывает, что дело обстояло не так, поскольку эта система включала много очевидно новых элементов, частично позаимствованных из западных источников. Сочетание внешних и внутренних влияний в одной системе представлений не было новым для России явлением. Наиболее очевидный тому пример - сам большевизм, позже эволюционировавший в официальную советскую идеологию и явившийся синтезом теорий марксизма, революционного народничества и других идейных течений. Российские "демократы" аналогичным образом сочетали западные либеральные идеи с официальной советской идеологией. Это сочетание не могло быть результатом одной лишь имитации и выворачивания наизнанку предшествующих идей. Изучая культурные изменения в России до конца XVIII века, Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский обнаружили две модели адаптации представлений: "1) Сохраняется глубинная структура, сложившаяся в предшествующий период, однако она подвергается решительному переименованию при сохранении всех основных старых структурных контуров. В этом случае создаются новые тексты при сохранении архаического культурного каркаса. 2) Меняется сама глубинная структура культуры. Однако и меняясь, она обнаруживает зависимость от существовавшей ранее культурной модели, поскольку строится как "выворачивание наизнанку", перестановка существовавшего с переменой знаков"[63]. В случае российской "демократической" политической субкультуры отчетливо видны оба механизма. Весь процесс демократизации, как и сама перестройка, понимался как революция, точно так же, как в официальном марксизме трактовался захват власти большевиками в 1917 г. Но цель этой "демократической" революции была противоположной: если революция 1917 г. создала коммунистический режим, то "демократическая" революция должна была уничтожить его. Демократические процедуры, которые в западных демократических культурах рассматриваются как сущность демократии, понимались "демократами" как средство построения идеального "демократического" общества, и для лучшего выполнения этой задачи их считалось возможным изменять и ограничивать. Общественное развитие "демократы", как и их предшественники, считали объективным, но большевистский и советский марксизм, в отличие от "демократов", считали этот процесс орудием, которым может манипулировать революционная партия, сначала для создания условий революции, а затем для построения идеального коммунистического общества. Идеальное общество, как и в официальной идеологии, виделось "демократами" справедливым, процветающим, и создающим условия для создания совершенной личности. Однако они считали, что, так как тотальное огосударствление всех сторон жизни, неограниченная власть государства и полное подчинение личности коллективу помешали достижению этой цели, к ней следовало двигаться посредством тотальной денационализации, неограниченного индивидуализма и уничтожения "тоталитарного" государства. Сам идеал также подвергся реинтерпретации: теперь речь шла не о будущем коммунистическом обществе, а о его противоположности в официальной идеологии: "загнивающий" "капиталистический" Запад превратился в "цивилизованный" "демократический" мир. Идея интернационализма, всемирного союза для борьбы за идеал, также сохранилась, но теперь это был не коммунистический, а антикоммунистический "интернационал", союз не "красных", а "белых". Хотя все эти противоположные ценности и убеждения звучали по-западному, в действительности их интерпретация основывалась не на западных теориях, а на перевернутом официальном изображении того, что в рамках коммунистической идеологии считалось "социально негативным", на искаженном зеркальном отражении западной демократии. Поскольку коммунистическая концепция "социально негативного" включала не только Запад, но и российское прошлое, у "демократов" возник большой интерес к русским дореволюционным антибольшевистским идеям. Проведенный выше анализ взглядов российских "демократов" периода перестройки показывает, что "демократическая" политическая субкультура развивалась в последние годы существования СССР под влиянием официальной советской идеологии, доминирующей советской политической культуры (которая, в свою очередь, выросла на основе некоторых более ранних российских представлений) и западного либерализма. Это не исключает сходства между "демократической" и более ранними культурами, хотя это сходство и не было результатом прямых заимствований. Поскольку сама официальная советская идеология была продуктом аналогичной реинтерпретации более ранней русской культуры, постольку последняя также оказывала влияние на "демократическое" мышление. Например, некоторые авторы считают, что взгляд на Запад как на социальный идеал был обычным в некоторые периоды российской истории. В допетровские времена для доказательства законности своей власти и веры московские князья, особенно Иван Грозный, утверждали о своем прямом происхождении от римских императоров и описывали Рим как идеальное государство.[64] Согласно Ю.М. Лотману и Б.А. Успенскому, сам Петр I подверг реинтерпретации преобладавшие ранее представления о современном ему Западе как о греховном и вредном месте, приняв противоположную точку зрения, которая приписывала просвещенному Западу (откуда в Россию должен прийти свет разума) некоторые свойства бывших святых земель (Востока)[65]. Описывая русское западничество XIX в., Н.А. Бердяев отмечал: "Западничество есть явление более восточное, чем западное. Для западных людей Запад был действительностью и нередко действительностью постылой и ненавистной. Для русских людей Запад был идеалом, мечтой"[66]. Н.А. Бердяев рассматривает ранний марксизм в России также как форму радикального западничества, поскольку, согласно классическому марксизму, экономически развитый Запад был ближе к предполагаемому идеальному обществу будущего, чем отсталая Россия. Однако большевики переосмыслили эту идею, заявив, что Россия, именно вследствие слабости своего капитализма, более способна на построение идеального общества, а капиталистический Запад будет этому препятствовать. Так западнический марксизм превратился в свою противоположность: радикальное антизападничество. Понимание идеального общества как справедливого, процветающего и создающего условия для личного совершенства также может быть найдено в русской культуре задолго до возникновения большевистского марксизма. Точно так же и официальный советский интернационализм можно рассматривать как трансформацию более ранних идей о создании всемирных союзов для борьбы за истинную христианскую веру. Идею индивидуализма и понимание свободы как освобождения от сатанинского государства можно найти во многих российских системах представлений, начиная от старообрядцев и участников крестьянских войн XVII и XVIII в. и кончая революционерами-анархистами XIX в., такими, как М.А. Бакунин, и даже либеральной оппозицией царизму, представленной партией кадетов.[67] Сходство "демократического" отношения к государству с некоторыми более ранними русскими представлениями также очевидно. Пытаясь реконструировать традиционные российские представления о государстве и государственной власти, многие авторы указывали на некоторую схожесть отношения к российскому государству многих его критиков. Согласно Н.А. Бердяеву, идеи борьбы с государством возникли в России в период церковного раскола. Он отмечает, что после падения Византийской империи "в русском народе пробудилось сознание, что русское, московское царство остается единственным православным царством в мире и что русский народ единственный носитель православной веры "[68]. Это представление выразилось в известной теории о "Москве — Третьем Риме" инока Филофея. Реформы Никона вызвали кризис национального сознания, так как рушились представления о реально существующем государстве как о религиозном идеале. "В народе проснулось подозрение, что православное царство, Третий Рим, повредилось, произошла измена истинной веры. Государственной властью и высшей церковной иерархией завладел антихрист. Народное православие разрывает с церковной иерархией и с государственной властью"[69]. Социально-религиозный идеал, идея святого царства была перенесена с реального российского государства в сферу мысли, однако сохранилось стремление вернуть это царство на землю. Обращаясь к представлениям российской интеллигенции, Н.А. Бердяев отмечает сохранение в нем "раскольнических" черт, прежде всего отношения к государству как к абсолютному злу и стремления осуществить в России социально-нравственный идеал. Распространение идей социализма привело к секуляризации этих идей, однако их широкая популярность в России, согласно концепции Н.А. Бердяева, стала возможной как раз благодаря тому, что теория идеального "социалистического" или "коммунистического" общества и отрицание "капитализма" как существующей формы государственного устройства хорошо укладывались в рамки "традиционных" социально-религиозных представлений[70]. В этом контексте необходимо рассматривать подход оппозиции к существующему российскому государству, считавшемуся абсолютным злом, против которого следует решительно бороться, и которому противопоставлялось идеальное общество будущего. Известная строфа писателя и мыслителя В.С. Печерина (пусть и сочиненная, по его собственным словам, в "припадке байронизма"), частично приводимая Н.А. Бердяевым, является лишь крайним выражением этой тенденции: "Как сладостно отчизну ненавидеть Эти выводы подтверждаются и другими авторами, например, В.В. Зеньковским, который прослеживает влияние православных социальных представлений на эволюцию мировоззрения многих идеологов интеллигенции, воспринявших социалистические идеи: В.Г. Белинского, Н.В. Станкевича, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского, М.А. Бакунина. Речь, конечно, идет не о заимствовании идей раскольников, но, скорее, об их развитии. Православный общественный идеал был перенесен из современной России вовне, на этот раз в будущее, при сохранении идеи особой роли России как страны, наиболее подходящей для его осуществления. Тот факт, что многие из рассматриваемых В.В. Зеньковским идеологов российского социализма вышли из семей священников и получили религиозное образование, безусловно, не является случайностью[72]. Недостаток серьезных современных исследований по идеологии раскола и русской социалистической мысли не дает возможности безусловно принять эту концепцию. Однако некоторые ее элементы могли бы быть полезными для настоящего исследования. Представления российских "демократов" периода перестройки о государственном и общественном устройстве СССР могут быть интерпретированы как опосредованно сохранившие некоторые элементы одного из типов "традиционного" русского подхода к государству. Отношение членов "демократических" групп к российскому государству как к абсолютному злу и даже некоему антимиру и противопоставление его социальному идеалу, который в данном случае переносился либо на Запад, либо в будущее, практически повторяет подход дореволюционных российских социалистов. Однако речь здесь, как и в случае с раскольниками, ни в коем случае не идет о прямом заимствовании. Напротив, эти идеи, даже у тех "демократов", которые называли себя "социалистами" и "социал-демократами", складывались на основе отрицания идеологии дореволюционного радикального российского социализма и особенно одной из его наиболее последовательных форм — большевизма. В данном случае можно говорить лишь о схожести модели подхода и типа отношения к государству. В то же время фактор преемственности не следует преувеличивать. "Традиционные" представления о государстве, которые сами отнюдь не составляли единого целого, подверглись значительной трансформации в среде российских "демократов" под воздействием новых штампов, прежде всего официальной марксистской идеологии в ее советском варианте и либеральных идей Запада в том виде, как они проникали в СССР. Марксистский подход к государству как к узаконенному орудию господства правящего эксплуататорского класса над эксплуатируемыми массами, наиболее четко сформулированный В.И. Лениным, в рамках которого досоциалистическое государство рассматривалось как зло и несправедливость, наложился на "традиционное" представление о существующем российском государстве как зле. Марксистское понимание социализма и коммунизма как совершенного общества переносило представление о социальном идеале из области легенд в историческое будущее. Так как марксистская теория, с точки зрения "демократов", не оправдалась, они перенесли идеал далее: либо непосредственно на современный Запад, либо в то будущее, к которому "цивилизованный" Запад был ближе, чем Россия. Таким образом был совершен отход от ленинско-народнической идеи о том, что Россия ближе других стран к идеальному обществу будущего (с точки зрения народников, благодаря ее особой "общинной" системе, с точки зрения В.И. Ленина - как "слабое звено империализма"). Ленинская интерпретация марксизма, согласно которой необходимо разрушить старое государство, взять власть, а затем уже строить идеальное государство, сохранилась в виде отношения к государству как к абсолютному злу, что подразумевало необходимость его разрушения для расцвета "демократии". Понимание социальной сущности этого государства как основанного на эксплуатации народа господствующим классом также было взято из марксизма, но для того, чтобы применить эту схему для СССР был "обнаружен" совершенно новый, неизвестный марксизму класс ("номенклатура"). Влияние идей, которые обычно называют "западным либерализмом", также пережили несколько трансформаций по пути в Россию. Это было обусловлено, в частности, вторичным характером источников, по которым с ними знакомились "демократы", узнававшие об этих идеях в основном через советскую и западную пропаганду, а также тем, что официальная советская трактовка Запада в оппозиционных кругах прочитывалась чаще всего с обратным знаком: то, что советские идеологи подвергали критике, среди "демократов" воспринималось положительно. Например, если "капиталистическое" государство представлялось в советских газетах как эксплуататорское и пронизанное социальными конфликтами, будущие "демократические" оппозиционеры, не верившие официальным изданиям, считали, что на Западе царит полный социальный мир и гармония, а эксплуатация, напротив, существует в СССР. Так официальная советская литература косвенным образом подтверждала мнения, складывавшиеся на основе зарубежных радиопередач. Те относительно немногие "демократы", которые имели случай побывать на Западе, обычно в составе краткосрочных делегаций, видели лишь внешнюю сторону реальности "общества изобилия" и смотрели на Запад через призму собственной системы представлений. Западный "либерализм", особенно на уровне идеологии и общественного мнения, рассматривает современное западное демократическое общество как социальный идеал или, по крайней мере, как общество, наиболее совершенное из существующих, наиболее близкое к идеалу и способное его осуществить, а страны других частей света оцениваются с точки зрения их соответствия этому идеалу. Эти представления в их крайнем виде хорошо сочетаются с российской дореволюционной либеральной и марксистской традицией. Правые российские "демократы" прямо перенесли на Запад свой социальный идеал, доказывая, что Запад является им уже сейчас. В этом они сошлись с крайними консерваторами на Западе. Российские "социалисты" и "анархисты" считали идеалом не современное западное общество, но некое будущее, к которому Запад все же ближе, чем СССР. Это мнение совпало со взглядами западных левых. Однако такое сходство во мнениях не должно дезориентировать обе стороны, поскольку системы представлений западных и российских политических активистов в целом очень сильно различались. В то же время поверхностное сходство между системами представлений российских "демократов" и более ранних российских политических движений не означает, что в российской политической культуре не происходило изменений. Системы представлений российских "демократов" и российских большевиков или западников XIX в., взятые в целом, безусловно, серьезно различаются. Российская "демократическая" политическая субкультура вобрала в себя и ассимилировала многие новые представления, которые ранее просто не существовали в России. Некоторые из представлений, составивших эту субкультуру, пришли с Запада, другие - из официальной идеологии, третьи из личного опыта, и лишь немногие - из семейного образования, которое могло служить средством передачи традиционной "исконной русскости". Но даже семейное образование было в значительной степени обусловлено современным опытом, под влиянием которого традиционные представления способны значительно измениться. Например, как будет показано ниже, одна из наиболее значительных новых особенностей политической культуры российских "демократов", а именно их твердая вера в необходимость мирного разрешения любых конфликтов, не была характерна для предшествующих западнических движений (включая даже кадетов, которые отказывались открыто осудить революционный террор) и, скорее всего, имела своим источником не западные политические идеи, а доминирующую советскую политическую культуру в целом. Как и любая культура, культура российская меняется постепенно. Между двумя культурами, одна из которых непосредственно предшествует другой, естественно, легко найти много общего, можно обнаружить общие черты и между культурами, отделенными друг от друга несколькими десятилетиями. Но сделать это, сравнивая Россию XX в. и Россию, скажем, XV в., не просто. Попытки отыскать специфически российские аналогии (а не черты, свойственные всему человечеству) в таких случаях неизбежно приводят к поверхностным, натянутым выводам и обычно проводятся не с научными целями. В настоящем исследовании показано, к каким ошибкам может привести рассмотрение лишь поверхностного уровня дискурса при анализе проблем преемственности в русской культуре, где "историческая традиция часто выступала именно там, где субъективно подразумевался разрыв с традицией, а новаторство порой проявлялось в форме фанатической привязанности к искусственно сконструированным "традициям"[73]. Это свойство русской культуры (и не обязательно ее одной) делает количественные исследования полезными лишь отчасти, поскольку они имеют дело только с отдельными установками, оставляя в стороне всю сеть взаимосвязей, которые позволяют говорить о культуре как об относительно целостной системе представлений. Поверхностный взгляд на современную российскую политическую действительность может создать впечатление, что наиболее радикальные антитоталитаристы, антигосударственники и сторонники абсолютного индивидуализма и частной инициативы придерживаются крайне нетрадиционных для страны взглядов. Но более внимательный исследователь политической культуры и политических традиций России придет к иным выводам. Так, российские "демократические государственники", выступавшие за разумный баланс между государственной властью и личными правами (и на которых некоторыми исследователями был навешен ярлык "либеральных националистов"), и даже те анархисты и социал-демократы, которые поддерживали менее радикальную и более социально ориентированную экономическую реформу, были, возможно, большими новаторами в российской политической культуре, чем радикальные "демократы", призывавшие к полному и немедленному уничтожению "тоталитарного" государства и абсолютному преобладанию личности над государством и коллективом (даже несмотря на то, что именно первые часто использовали исторические аргументы для обоснования своей позиции). 8.4. Российская "демократическая" политическая субкультура и советская доминирующая политическая культураВлияние доминирующей российской политической культуры на политические представления российских "демократов" легко понять, поскольку "демократическая" политическая субкультура, несмотря на некоторые особенности, сама была ее составной частью. Детальный анализ доминирующей политической культуры Советского Союза или одной только Российской Федерации - задача отдельных исследований. Мы коснемся лишь тех ее сторон, которые сильнее всего влияли на представления российских "демократов". Вопросы советской политической культуры в той или иной форме затрагиваются в десятках работ, однако лишь очень небольшое число из них можно считать серьезными исследованиями. Термин "политическая культура" существовал и в СССР, а после 1970 г. эта концепция получила широкое распространение, но в Советском Союзе он употреблялся совсем в ином значении, чем на Западе, и большинство исследований советских специалистов до самого конца существования СССР были крайне идеологизированы[74]. Хотя некоторые исследования, основанные на опросах, и проводились в СССР до перестройки, особенно в относительно свободной атмосфере 1960-х гг., большинство из них проходило под контролем властей, которые либо не позволяли публиковать результаты, либо публиковали "скорректированный" вариант[75]. В то же время зарубежные специалисты были лишены возможности проводить в СССР широкие исследования и применять методы, обычно используемые при изучении политических представлений населения. Тем не менее анализ советской политической культуры может быть основан на некоторых эмпирических данных, приводимых в материалах, ставших доступными за пределами СССР, и на ряде исследований, проводившихся в СССР в последние годы его существования. На основе изучения документов Смоленского архива, которые попали на Запад во время второй мировой войны, М. Фейнсод отметил довольно широкое распространение в народе недовольства и неудовлетворенности советскими властями в предвоенные годы, которые, однако, не выражались в какой-либо организованной форме. Согласно этому исследователю, документы дают "безупречные доказательства широкого массового недовольства советским режимом"[76]. Выводы М. Фейнсода, возможно, чрезмерно заострены, поскольку он в основном пользовался докладами осведомителей НКВД, которые по карьерным соображениям, особенно в конце 30-х годов, могли преувеличивать уровень недовольства и число врагов режима. В то же время эти выводы имели большое значение, так как опровергали аргументы официальной советской пропаганды и некоторых западных исследователей о том, что советский режим успешно воспитывает нового человека и все жители СССР принимают официальные ценности. Однако М. Фейнсод не провел детального исследования реальных ценностей советского населения. Эту задачу пытались решить А. Инкелес и Р. Бауэр в "Советском гражданине" - исследовании, основанном на интервью с советскими эмигрантами, осуществленном в рамках Гарвардского проекта о Советской общественной системе. Эта книга, изданная в 1959 г., содержала данные, главным образом, сталинского периода. Авторы описали несколько важных особенностей политической культуры сталинского СССР. Согласно их выводам, во-первых, у населения существовало устойчивое представление, что советское общество делится на две основные группы: правящая привилегированная группа партийных функционеров и все остальные[77]. Как это ни удивительно, немало эмигрантов, иногда после нескольких лет жизни за границей, весьма положительно отзывалось о некоторых сторонах советской действительности. Особенно высоко они оценивали советскую систему государственного образования, здравоохранения и социального обеспечения, которые оценивали выше, чем аналогичные учреждения в США. Как ни парадоксально, но они не считали эти положительные стороны советской действительности результатом усилий коммунистической власти, а воспринимали их как нечто само собой разумеющееся. Иными словами, те стороны советской жизни, которые нравились людям, нисколько не увеличивали популярности властей. Более того, опыт жизни в рыночных условиях вырабатывал у эмигрантов более положительное отношение к советской действительности в целом. По словам авторов, "беженцы из всех социальных групп реагировали на контакт с американским обществом возобновленной тягой к советской системе социального обеспечения"[78]. Большинство эмигрантов крайне отрицательно относилось к советскому государственному террору и поддерживало идею государства, гарантирующего права личности и верховенство закона. В то же время большинство полагало, что эти права должны быть ограничены интересами общества в целом. Например, только треть считала, что граждане должны иметь право на открытую критику правительства, и меньше трети говорили, что власти не должны запрещать собрания, критикующие государство. При этом почти все считали, что гражданин должен иметь право на беспрепятственное перемещение по стране, на выбор места работы, и на защиту закона от произвольного ареста[79]. Большинству эмигрантов советское государство представлялось именно такой страной произвола и несправедливости. Поэтому от 40 до 60 процентов опрошенных (в зависимости от социальной группы) говорили, что если большевики лишатся власти, их вождей следует казнить, а от 44 до 70 процентов заявляли, что большевики хуже фашистов. Хотя эти пропорции нельзя напрямую относить ко всему советскому населению того времени, этот анализ, тем не менее, показывает возможную тенденцию развития представлений советского (или бывшего советского) населения, особенно, если оно окажется в ситуации более значительной политической и экономической свободы. Эту тенденцию можно вкратце описать как рост недовольства и ненависти к коммунистическому режиму и ожидание того, что последующие правительства будут более эффективно выполнять обещанное, но не выполненное коммунистами. В поздний период существования СССР до конца 1980-х гг., возможностей для серьезных эмпирических исследований советской политической культуры внутри страны все еще не было. Однако в этот период было проведено еще несколько исследований, основанных на опросах эмигрантов. Хотя они были менее масштабными, чем Гарвардский проект, эти исследования подтвердили ряд его выводов и выявили некоторые тенденции в развитии политических представлений советского населения. Вероятно, самым масштабным из этих исследований был Проект "Советское интервью" (Soviet Interview Project), результаты которого были опубликованы в 1987 г[80]. В отличие от Гарвардского проекта, основанного на интервью главным образом с русскими и украинцами, в рамках нового исследования интервью проводились в основном с выехавшими из СССР евреями, которые в конце 1970-х и начале 1980-х гг. составляли основной поток эмигрантов. По сравнению с респондентами Гарвардского проекта, значительно большая их часть в СССР жила в городах, и их уровень образования также был намного выше. Ожидалось, что такие респонденты будут чрезвычайно враждебны к советской системе. Однако результаты оказались значительно сложнее. Исследование выяснило, что большинство респондентов положительно отзывались о тех же сторонах советской действительности, что и их предшественники тридцатью годами раньше. Оценивая различные аспекты своего "последнего периода нормальной жизни" в СССР, более двух третей респондентов утверждали, что они были более или менее удовлетворены или весьма удовлетворены своим уровнем жизни, работой, жилищными условиями и системой здравоохранения. Только при ответе на вопрос о доступности товаров менее половины выразило частичную или полную удовлетворенность; менее четверти ответили, что были более или менее или весьма удовлетворены доступностью товаров[81]. Ответы на вопрос, что следует сохранить из нынешней советской системы, практически повторяли модель Гарвардского проекта. Самыми популярными сторонами советской системы снова были названы образование и здравоохранение. Половина респондентов высказалась за государственную монополию на тяжелую промышленность, в то же время более половины решительно выступало за приватизацию сельского хозяйства. Выводы Гарвардского проекта повторились и в области политических свобод. Значительная часть респондентов выступала за расширение прав и свобод, но не безграничное и не во всех областях. Например, большую популярность имели требования отмены прописки и предоставления рабочим права на забастовку, но только около четверти отвергали идею защиты прав общества, "даже если невинные люди (обвиненные в преступлениях) иногда попадают в тюрьму". В целом политические представления советских граждан показали значительный уровень преемственности за период примерно в тридцать лет. Эта преемственность проявилась также в отсутствии положительной корреляции между положительной оценкой некоторых сторон советской системы и поддержкой режима в целом. На основе результатов этих опросов Б. Сильвер сделал вывод, что, "даже те, кто крайне неприязненно относится к системе в целом, продолжают твердо поддерживать некоторые ее стороны системы. Например, среди тех, кто выбрал вариант ответа "США нечему учиться у Советского Союза", 48 процентов самым решительным образом высказывались за государственную собственность на тяжелую промышленность. Это может свидетельствовать, как исторический опыт людей, т. е. их социализация в данной политической системе, формирует их фундаментальные представления о том, как правительству следует строить свою работу. В частности, среди тех, кто враждебно относится к системе, доля сторонников контроля со стороны коллектива оказалась лишь незначительно ниже, чем среди респондентов в целом"[82]. Как и в сталинское время, советские граждане брежневской эпохи, враждебно настроенные к режиму, не одобряли западные и особенно радикально-либертаристские модели общества неограниченных гражданских прав (даже когда в целом предпочитали западную систему советской). Их враждебность к советскому режиму была вызвана не его несоответствием западному образцу, а его неспособностью осуществить собственные идеологические цели и проводить политику, которая соответствовала бы умеренным и смешанным общественным идеалам населения. Эти выводы в целом подтверждаются данными других исследований[83]. Имеющиеся исследования представлений советских граждан о международных отношениях показывают еще большее согласие с официальной линией. А. Инкелес и Р. Бауэр, например, отмечали, что большинство в СССР, судя по всему, в целом поддерживало картину международных отношений, распространявшуюся официальными средствами массовой информации. Согласно американским исследователям, советские люди верили, что в правительстве США доминируют могущественные группировки, которые "выглядят преданными идее войны на уничтожение против Советского Союза и других стран. Они воображают грандиозный заговор Запада с целью помешать колониям и слаборазвитым регионам получить независимость и воплотить свои законные национальные надежды на мирное экономическое развитие. Они весьма гордятся советской мощью и сложившимся у них образом СССР как ведущей мировой силы. Они верят, что советское правительство стоит на страже мира и защищает слабых и угнетенных. Они страстно желают мира и сокращения военных расходов, которое станет возможным в стабильном мире"[84]. Не следует забывать, что эти выводы сделаны на основе ответов людей, в целом очень враждебных ко многим аспектам советского режима. Похоже, что внешняя политика не служила источником враждебности, по крайней мере, в то время. Эта поддержка общих идеологических принципов советской внешней политики не исключала, однако, мнения, что отдельные действия советского правительства на международной арене несовместимы с его миролюбивой политикой и, следовательно, должны критиковаться. К сожалению, исследования политических представлений советских людей в брежневский период не содержат достаточно полных данных о внешнеполитических настроениях. Из данных проекта "Советское интервью" все же видно, что тридцать лет спустя советские граждане высказывались за сокращение военных расходов и помощи "дружественным" режимам[85]. Когда в конце 1980-х гг. и советские, и иностранные исследователи получили возможность проведения крупномасштабных опросов в СССР, их выводы в целом подтвердили результаты более ранних работ, основанных на интервью с эмигрантами. Иностранные специалисты, изучая данные опросов, были поначалу удивлены, обнаружив у советского населения то же стремление к свободе и личной независимости, которое обычно находят в западных демократиях. Однако вскоре начали выявляться и различия. Например, на основе результатов опроса, проводившегося в мае 1990 г. в европейской части СССР, Д. Гибсон и Р. Дач сделали вывод, что "люди высказывали чрезвычайно широкую поддержку состязательным выборным структурам и настойчиво желали пользоваться разнообразными правами гражданина демократической страны"[86]. В то же время авторы выяснили, что поддержка других аспектов всей совокупности демократических ценностей представляет более пеструю картину. Д. Гибсон и Р. Дач делают заключают, что, по существующим свидетельствам, "не все стремились к свободе, если ее цена - социальные потрясения. Многие советские граждане не обнаружили большой преданности демократии в той мере, в которой демократическая политика позволяет открытое выражение неприятных, подрывных и оскорбительных мнений. Это особенно ясно видно, когда мы изучаем политическую терпимость. Советские люди совершенно не желали допускать своих наиболее ненавистных врагов к участию в борьбе за политическую власть. Граждане активно требовали прав для себя даже тогда, когда они не желали распространять те же права на других"[87]. Как и в предшествующих исследованиях, обнаружилось, что советские граждане принимают свободу, ограниченную интересами общества в целом, как они их понимают. Однако главной проблемой страны большинством считалось вовсе не отсутствие прав и свобод. Как и в случае с эмигрантами, новые опросы показали, что главным недостатком правительства считалась его неспособность решить социальные вопросы и повысить уровень жизни. Различия во мнениях членов "демократических" групп и населения в целом можно выявить, сопоставив данные опроса, проводившегося Всесоюзным центром по изучению общественного мнения (ВЦИОМ) в ноябре 1989 г., с опросом двухсот участников дискуссии, проходившей в апреле 1988 г. в московском клубе "Перестройка". Отвечая на вопрос: "Чего сегодня больше всего не хватает советским гражданам?", почти 57 процентов респондентов ВЦИОМ указали на материальное благополучие, и менее 15 процентов - на политические права. В ответ на просьбу назвать главную задачу, стоящую перед обществом, 38 процентов респондентов указали на необходимость обеспечить материальное благосостояние народа, 29 процентов - на установление настоящей справедливости без каких-либо привилегий, 24 процента - на необходиомсть возродить деревню, сельское хозяйство и деревенский образа жизни, и только 19 процентов (четвертое место) – на построение свободного демократического общества[88]. Очевидно, что от нового правительства ожидали бы выполнения этих задач. В то же время при ответе на вопрос: "Какой социализм нужен народу?" более 70% участников дискуссии в клубе "Перестройка" сказали, что наиболее важной его чертой должна быть социальная справедливость, 65% - уважение прав и свобод личности, и только 12% упомянули повышение уровня жизни[89]. Очевидно, что "демократы", разделяя недовольство всего населения социальной несправедливостью (и придавая ей большее значение), видели важнейшую задачу реформы в политической либерализации, в то время как население в целом, не отвергая некоторой либерализации, на первое место ставило повышение материального благосостояния и уровня жизни. Сопоставление доминирующей советской политической культуры с политической субкультурой российских "демократов" может привести к следующим выводам. Враждебность советскому режиму в последние годы существования СССР "демократы" разделяли со всем населением, за тем, может быть, исключением, что это чувство у них было гораздо более острым и четко сформулированным. Именно в этом была причина популярности "демократов" в 1990-1991 гг. Социальную структуру советского общества и неудачи системы и "демократы", и население видели одинаково: и те и другие считали, что общество разделено на две группы, привилегированную партийную номенклатуру и массы; и те и другие в несчастьях страны винили коммунистов, особенно их вождей. Предметом особого негодования и "демократов", и населения в целом были привилегии правящей элиты, ее безразличие к нуждам народа и открытое противоречие между объявленными целями и неспособностью их достичь. Именно поэтому население так хорошо понимало и воспринимало "демократические" теории о "новом классе", всемогущей номенклатуре, повелевающей массами. Однако не все меры по устранению несправедливости, предлагаемые "демократами", поддерживались населением. Умеренные предложения лишить "партократию" власти, уравнять партийных чиновников с обычными гражданами в юридических правах или лишить КПСС монополии на власть были близки к тому, что считало необходимым большинство населения. Но требования наиболее радикальных "демократов" запретить КПСС, признать ее преступной организацией, устроить над ней суд по модели Нюрнбергского процесса или объявить запрет на занятие бывшими партийными чиновниками высоких государственных постов не могли получить поддержку населения, которое в целом не верило в равную ответственность всех коммунистов за ситуацию в стране. То же можно сказать и о соотношении между политическими идеалами "демократов" и населения в целом. Общая цель "демократов" - изменить политическую систему страны, безусловно, поддерживалась большинством населения. Но в понимании того, какое общество должно прийти на смену старому, имелись значительные различия. Большинство населения считало, что приватизация в некоторых сферах экономики, особенно в тех, которые явно оказались в кризисе: в сельском хозяйстве, в легкой промышленности и в сфере услуг - возможна и необходима. В то же время большинство считало нормальным и полезным государственный контроль над тяжелой промышленностью, и было очень высокого мнения о государственной системе образования, медицинской помощи и социального обеспечения. Таким образом, можно сказать, что общественное мнение было близко к экономическим взглядам умеренных "демократов" социал-демократической и коммунитаристской ориентации, но не наиболее радикальных сторонников приватизации и вестернизации[90]. Большинство населения, впрочем, могло поддержать некоторые меры по либерализации, поскольку крайне отрицательным было его отношение к эксцессам советского режима: террору и преследованиям, а также неподотчетности репрессивных государственных органов. "Демократические" призывы к построению правового государства и решению всех общественных конфликтов посредством дискуссий и переговоров, а не силой и репрессиями, нашли поддержку у населения, которое помнило ужасы сталинизма и фашизма. В то же время население считало политические свободы менее важными целями, чем улучшение экономической ситуации, и подходило к ним не как к неотъемлемым правам, а всего лишь как к средствам улучшения общества. Полагая, что определенная степень либерализации и отмена государственной монополии на информацию необходимы и желательны, большинство советского населения не возражало бы против некоторых ограничений этой либерализации в интересах общества. Принимая это во внимание, можно утверждать, что радикальные рыночники и либертаристы среди "демократов", считавшие политические свободы неотъемлемыми правами личности, или предлагавшие немедленную и всеобщую приватизацию вне зависимости от социальных последствий, едва ли могли ждать поддержки от большинства своих сограждан. В то же время позиция сторонников более умеренных "демократов" коммунитаристских, государственнических или социал-демократических убеждений была гораздо ближе их ожиданиям и поэтому могла рассчитывать на большую поддержку. Различия во внешнеполитических настроениях были еще более резкими. Хотя в этой области даже более умеренные "демократы" в то время одобряли радикальную прозападную политику, общественное мнение было готово только на ограниченные перемены. Население могло принять лишь немногие внешнеполитические меры, предлагаемые "демократами", такие, как сокращение военных расходов, неучастие в зарубежных военных конфликтах, вывод войск из-за границы и невмешательство в дела бывших сателлитов. Однако полное подчинение советской внешней политики западным интересам или какое-либо партнерство, в котором, по плану некоторых "демократов", Советский Союз вместе со всем, что традиционно считалось русскими или советскими достижениями, должен был стать младшим партнером Запада, не вызвало бы большого энтузиазма у населения в той степени, в какой внешнеполитическим проблемам придавалось значение. Таким образом, несмотря на значительное сходство между доминирующей советской политической культурой и российской "демократической" субкультурой, между ними были и серьезные различия, и предложения наиболее крайних сторонников рынка и западников заходили гораздо дальше того, что было приемлемо для большинства населения. [1] Обзор западных и советских подходов к политической власти и советскому государству см.: Archie Brown, ‘Pluralism, Power and the Soviet Political System: A Comparative Perspective’, in Susan Gross Solomon (ed.), Pluralism in the Soviet Union (London: Macmillan, 1983), p.61-107. [2] Benjamin R.Barber, ‘Totalitarianism’, in David Miller, Janet Coleman, William Connolly, and Alan Ryan (eds.), The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought (Oxford: Basil Blackwell, 1987), p.526. [3] См. F.A.Hayek, The Road to Serfdom (London: Routledge, 1944), p.8-17; Karl R.Popper, The Open Society and its Enemies (London: Routledge & Kegan Paul, 1945). Эта идея была позаимствована либеральными противниками тоталитаризма у итальянских авторов термина, которые с его помощью описывали итальянское фашистское государство как положительную альтернативу либеральной цивилизации. Точно так же этот термин использовался впоследствии некоторыми идеологами нацизма. См. Leonard Shapiro, Totalitarianism (London: Macmillan, 1978), p.13-14. [4] Этот аргумент очень четко выведен, например, в книге: Carl J.Friedrich and Zbigniew K.Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 2nd edn. (New York: Praeger, 1966; 1st publ. in 1956), p.3-13. [5] На такую точку зрения повлияли известные сочинения А.И. Солженицына, который описывал царское самодержавие как систему, во всех аспектах превосходящую советский коммунизм. Однако, в отличие от большинства "демократов", А.И. Солженицын отрицал всякие параллели между российским прошлым и советским настоящим, и, по крайней мере, на известном этапе, предпочитал российский авторитаризм (и авторитаризм в целом) демократии западного типа именно потому, что, как он считал, "слабая" демократия легко может смениться тоталитаризмом. См., напр.: Солженицын А.И. На возврате дыхания и сознания // Солженицын А.И. Публицистика. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство. 1995. С. 43-46. [6] Carl J.Friedrich, ‘The Unique Character of Totalitarian Society’, in Carl J.Friedrich (ed.), Totalitarianism, (New York: Grosset & Dunlap, 1964; 1st publ. 1954). [7] См. Friedrich and Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, p.22. [8] Арон Р. Демократия и Тоталитаризм. М.: Текст. 1993. С. 230-231. Подробное обсуждение этой концепции см.: Shapiro, Totalitarianism. [9] См., напр.: Barber, ‘Totalitarianism’, p.526. [10] Одна из групп "демократических" депутатов Моссовета пыталась выдвинуть В.К. Буковского в кандидаты на пост мэра Москвы против "номенклатурного" кандидата Ю.М. Лужкова, после того, как Г.Х. Попов в 1992 г. ушел в отставку, но выборы были отменены. [11] Vladimir Bukovsky, ‘Totalitarianism in Crisis’, in Ellen Frankel Paul (ed.), Totalitarianism at the Crossroads (New Brunswick, NJ: Transaction, 1990), p.9. [12] Alex Inkeles and Raymond A.Bauer, The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959), p.246-248. [13] Некоторые российские оппозиционные активисты поначалу разделяли теорию конвергенции, но впоследствии перешли на более прозападные позиции. Самый яркий пример - статья А.Д. Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе" и его последующие работы. [14] Например, книга Дж.К. Гэлбрейта, одного из основных сторонников конвергенции, "Новое индустриальное государство", была переведена и опубликована издательством "Прогресс" в 1969 г. [15] Jerry Hough, The Soviet Union and Social Science Theory (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977), p.5. [16] Ibid. p.14-15. [17] D.Nicholls, Three Varieties of Pluralism (London: Macmillan, 1974), p.56. [18] Robert A. Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1982), p.5. [19] См. Archie Brown, ‘Pluralism, Power and the Soviet Political System’, p.80-81. [20] Дж. Хаф четко указывает на прямую связь между двумя концепциями советского общества и двумя типами политики по отношению к СССР - см. The Soviet Union and Social Theory, pp.vii-viii. Обсуждение этой проблемы см.: Лукин А.В. Англоязычная советология и общественные науки в России // США: экономика, политика, идеология. 1995. №9. С. 38-50. [21] Philippe Schmitter, ‘Still the Century of Corporatism?’, Review of Politics, 36 (Jan. 1974), p.93-94. [22] V.Bunce and J.M.Echols III, ‘Soviet Politics in the Brezhnev Era: "Pluralism" or "Corporatism"?’, in Donald R.Kelly (ed.), Soviet Politics in the Brezhnev Era (New York: Praeger, 1980), p.1-26. [23] См., напр.: G.Skilling and F.Griffits (eds.), Interest Groups in Soviet Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971); Terry Cox, ‘Democratization and the Growth of Pressure Groups and Post-Soviet Politics’, in Jeremy J.Richardson (ed.), Pressure Groups (Oxford: Oxford University Press, 1993). О "плюрализме элит" см. H.G.Skilling, ‘Interest Groups and Communist Politics’, World Politics, 18:3 (Apr.1966), p.435-451. [24] Robert Dahl, A Preface to Democratic Theory (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1956), p.1. [25] Обсуждение различных теорий демократии в политологии см., напр.: Howard P. Kainz, Democracy East and West: A Philosophical Overview (London: Macmillan, 1984); Anthony H. Birch, The Concepts and Theories of Modern Democracy (London: Routledge, 1993). [26] Robert A.Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1989), p.2. [27] James L.Hyland, Democratic Theory: The Philosophical Foundations (Manchester: Manchester University Press, 1995), p.36. [28] Giovanni Sartori, The Theory of Democracy Revisited (Chatham, NJ: Chatham House Publishers, 1987), p.8. [29] Ibid. p.9. [30] Ibid. [31] Ibid. [32] Ibid. p.10. [33] Dahl, A Preface to Democratic Theory. [34] Barry Holden, The Nature of Democracy (New York: Harper & Row, 1974). [35] Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия // Антология мировой политической мысли. Т.2, М.: Мысль. 1997. С. 222. [36] Там же. С. 222-223. [37] Обсуждение этих проблем см.: Dahl, Democracy and its Critics, p.121-122. [38] Например, по взглядам на будущее России и В.Н. Лысенко, и В.И. Новодворскую можно причислить к радикальным либералам. Однако В.Н. Лысенко в какой-то момент верил, что можно реформировать КПСС, и остался в партии во главе Демократической платформы, а В.И. Новодворская стала одним из лидеров крайне оппозиционного Демократического союза, который объединял радикальных марксистов, социалистов и либералов. [39] Интервью с И.К. Гринченко. Владивосток, 24.04.1994. [40] Берлин И. Две концепции свободы // Современный либерализм. М.: Прогресс-Традиция, 1998. С. 19-20. [41] F.A.Hayek, The Constitution of Liberty (London: Routledge & Kegan Paul, 1960), p.85. [42] Hayek, The Road to Serfdom, p.59. [43] Ibid. [44] См. Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, 1974). [45] См. John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971). [46] См. Hayek, The Road to Serfdom, p.59. [47] Берлин И. Две концепции свободы. С. 20. [48] Hayek, The Constitution of Liberty, p.18. [49] Россия: неделимая или "делимая" // Демократическая газета. 10 мая 1991. С.9. [50] Там же. [51] Там же. [52] Там же. [53] См. Рыбаков Б.А.. Язычество древней Руси. М.: Наука, 1987. [54] См. Nicholas V.Riasanovsky, ‘The Norman Theory of the Origin of the Russian State’, in Nicholas V.Riasanovsky, Collected Writings: 1947-1994 (Los Angeles: Charles Scholacks, 1993); Рязановский В.А. Вопрос о влиянии норманов на русскую культуру // Historical Survey of Russian Culture (New York: L.Rausen, 1947). [55] Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века. Петроград: Типография А.Бенке. 1916. С.81. [56] О западном влиянии на славянофилов см.: Цимбаев Н.И. Славянофильство. М.: Издательство Московского университета. 1986. С.145-146. [57] Фигнер В.Н. Студенческие годы // Фигнер В.Н. Полн. собр. соч. Т.5. М., 1932. С. 103-105. [58] Чаадаев П.Я. Философические письма (1829-1830). Письмо первое // Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. Т.1. М.: "Наука", 1991. С. 333, 336. [59] Впоследствии В.И. Ленин изменил свою точку зрения и утверждал, что капитализм в России находится на уровне, достаточном для немедленного перехода к социализму. См. Плеханов Г.В. Наши разногласия // Плеханов Г.В. Соч. СПб.-Л.: Государственное издательство. 1923-1927. Т.2; Ленин В.И. Развитие капитализма в России (и последующие работы В.И. Ленина). [60] Цит. по.: Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб.: Типография Первой спт. трудовой артели. 1909. С. 207. [61] Там же. С. 551. [62] Richard E.Dawson and Kenneth Prewitt, Political Socialization (Boston, Mass.: Little, Brown and Co., 1969), p.75. [63] Лотман Ю.М. и Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1. М.: Гнозис. 1994. С. 224. [64] Лотман Ю.М. и Б.А.Успенский и Б.А. Отзвуки концепции "Москва - Третий Рим" в идеологии Петра Первого // Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1. С. 60. [65] Лотман Ю.М. и Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века). С. 242-243. [66] Бердяев Н.А. Русская идея. Харьков: Фолио; М.: АСТ. 1999. С. 56. [67] О старообрядцах см. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовные движения семнадцатого века. Munich: Wilhelm Fink Verlag, 1970. Об идеях революционеров XIX в. см. Итенберг Б.С. Движение революционного народничества. М.: Наука, 1965; Богучарский В.Я. Активное народничество семидесятых годов. М.: Издательство М. и С.Сабашниковых. 1912; О кадетах и российском либерализме см. Леонтович В.В. История либерализма в России. М.: Русский путь – Полиграфресурсы. 1995. [68] Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука. 1990. С. 9. [69] Там же. С. 10-11. [70] Н.А. Бердяев развивает подобные идеи во многих своих работах: "Истоки и смысл русского коммунизма", "Русская идея" и др. [71] Печерин В.С. Замогильные записки // Русское общество 30-х годов XIX в. // Мемуары современников. М.: Издательство московского университета. 1989. С. 161. Н.А. Бердяев. Русская идея. С. 40. [72] Зеньковский В.В. История русской философии. Л.: Эго. 1991. Т.1. Ч. 2. Особенно гл. 5. [73] Лотман Ю.М. и Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века). С 224 [74] См., напр.: Две культуры - два образа мысли / Под ред. Е.М.Бабосова. Минск: Наука и техника. 1985. [75] См. Социология в России / Под ред. В.А.Ядова, М.: Издательство Института социологии РАН. 1998. С. 572-579. [76] Merle Fainsod, Smolensk under Soviet Rule (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958), p.449. [77] Inkeles and Bauer, The Soviet Citizen, p.301. [78] Ibid. p.238. [79] Ibid. p.248-249. [80] James R.Millar (ed.), Politics, Work and Daily Life in the USSR: A Survey of Former Soviet Citizens (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). [81] Brian D.Silver, ‘Political Beliefs of the Soviet Citizen’, in Millar (ed.), Politics, Work and Daily Life in the USSR, p.105. [82] Ibid. p.114. [83] См., напр.: Stephen White, Political Culture and Soviet Politics (London: Macmillan, 1979). [84] Inkeles and Bauer, The Soviet Citizen, p.382. [85] См. Linda L.Lubrano, ‘The Attentive Public for Soviet Science and Technology’, in Millar (ed.), Politics, Work and Daily Life in the USSR, p.156. [86] James L.Gibson and Raymond M.Duch, ‘Emerging Democratic Values in Soviet Political Culture’, in Arthyr H.Miller, William M.Reisinger and Vicki L.Hesli (eds.), Public Opinion and Regime Change: The New Politics of Post-Soviet Societies (Boulder, Colo.: Westview, 1993), p.87. [87] Ibid. p.88. [88] Советский простой человек / Под ред. Ю.А.Левады. М.: Мировой океан. 1993. С. 280-281. [89] Некоторые результаты опроса участников дискуссии в клубе "Перестройка" 25 апреля 1988 г. Рукопись. [90] Например, согласно всесоюзному опросу ВЦИОМа в ноябре 1990 г., 58% респондентов считало, что государство должно больше заботиться о народе, и 23% полагало, что люди должны проявлять инициативу и заботиться о себе сами. Большинство людей предпочитало небольшой, но стабильный заработок крупным, но ненадежным доходам. (Левада Ю.А. Советский простой человек. С.62, 52.) Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



