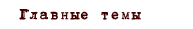
 |
|
Глава 2"Демократические" группы в Советской России: обзор литературыО "демократических" политических группах в Советской России написано уже довольно много. В то время как некоторые из этих работ основываются на ценном материале и приводят к интересным выводам, для большинства из них характерны два основных недостатка. Их авторы либо полностью пренебрегают влиянием представлений и политической культуры на "демократическую" политику, либо рассматривают эти представления чисто формально, анализируя поверхностный уровень системы представлений и интерпретируя "демократический" язык с точки зрения обыденного значения его элементов в их собственной культуре или в западной "теории демократии", но без анализа того, как его понимали сами российские "демократы". Такой подход зачастую мешал дать точные ответы на поставленные авторами вопросы. Причину этих недостатков невозможно четко понять без анализа общих проблем исследования российской политической культуры. 2.1. Российская и советская политическая культура: проблемы анализаРоссийская политическая культура и советская реальность До того как горбачевские реформы открыли советское общество для опросов общественного мнения и других видов практических исследований, специалисты по советской политической культуре обращались к двум основным проблемам: 1) степени влияния традиционной российской политической культуры на формирование советской политической системы; и 2) природе советской политической культуры и ее возможному влиянию на будущее СССР. Широко распространена точка зрения на российскую (и советскую) политическую культуру, подчеркивающая ее "авторитарный" характер. По словам известного британского политолога А. Брауна, "нам никуда не деться от доминирующей авторитарной природы советского и российского политического опыта". Хотя Браун указывает на существование "неавторитарных" тенденций в России, он рассматривает их как менее значительные субкультуры[1]. Сущность предполагаемого традиционного российского авторитаризма формулирует в сжатом виде З. Бжезинский: "Центральной и существенной чертой реальности российской политики был ее преобладающий самодержавный характер. В отличие от своих западноевропейских соседей, Россия не прошла через продолжительную феодальную фазу. За свержением татарского ига последовал рост все более самоуверенного и доминирующего самодержавия. Собственность и люди принадлежали государству, персонифицированному в лице Самодержца[2] (функции которого соответствовали этому откровенному и гордому названию). Четко утверждалась обязанность едва ли не полного подчинения любого человека персонифицированному символу государства. Контроль над обществом, включая государственный контроль над церковью, в частности, посредством механизма переписи населения, созданного за столетия до аналогичных европейских методов управления, напоминал восточные деспотии и, по сути, прямо вытекал из этого исторического опыта. Результатом было установление главенства государства над обществом, политики над общественными делами, функционера над гражданином (или подданным) в степени, не сравнимой с тем, что было в Европе; а различия в степени действительно переходят в видовые различия"[3]. Согласно этому взгляду, политика большевиков была не более чем продолжением дореволюционного курса царских правительств, только усилившая уже укоренившиеся тенденции. Как утверждал С.Уайт, преобладающая "централизованная, коллективистская политическая культура, унаследованная большевиками в 1917 г… во многих отношениях сохраняется до настоящего времени"[4]. Однако существуют и другие подходы. Например, М. Раефф высказывал мнение, что к началу ХХ в. в России существовали две политические культуры: культура либеральной интеллигенции и отсталого крестьянства. Поскольку оба класса были уничтожены большевиками, невозможно говорить о влиянии какой-либо из этих политических культур на советское или пост-советское общество. Отвергая идею преемственности по отношению к дореволюционной политической культуре, М. Раефф утверждает, что "1917 г. и испытания гражданской войны радикально изменили историческую эволюцию России"[5]. Соглашаясь с существованием двух политических культур в царской России, Н.Петро ищет борьбу между ними и в советский период, тем самым поддерживая идею преемственности. Согласно Н. Петро, в России официальной "авторитарной" политической культуре в течение веков бросала вызов "альтернативная" культура, которая проявлялась в борьбе за определение верного объема полномочий самодержавной власти, правильных отношений между церковью и государством и подходящего для России самосознания. Эти три проблемы, по словам Н. Петро, "составили поле политической и культурной битвы между официальной государственнической и славянофильской политическими традициями в конце девятнадцатого века. В 1905 г. гражданское общество, вдохновленное альтернативной политической культурой, смогло заставить царя Николая II признать принципы народного правления и гражданских прав. Затем, в феврале 1917 г., гражданское общество заменило монархию республикой, преданной идее народного представительства, основанного на справедливых выборах"[6]. В отличие от М. Раеффа, Н. Петро считает, что хотя эта победа "спустя девять месяцев была похищена, борьба за ее возвращение продолжалась в течение всего советского периода"[7]. Аналогичный подход встречается и в некоторых российских исследованиях политической культуры. Так, Ю.В.Лепешкин обнаруживает постоянную борьбу между "демократической" и "авторитарно-патриархальной" политическими культурами на протяжении всей российской истории. Он утверждает, что "сталинская диктатура выросла... на хорошо удобренной почве, плодоносящей по сей день. Режим опирался на вековое подавление самодеятельной активности народа, отчужденность масс от политики". Однако, отмечает Ю.В. Лепешкин, в русской истории присутствует и другая, демократическая традиция: "Она имеет глубокие корни и несет сильный отпечаток патриархальных отношений. Классическим примером служат Новгородская, Псковская и Вятская вечевые республики, просуществовавшие до их присоединения к Московскому государству в XV веке. Вдали от крепостничества и деспотизма формировалась казацкая вольница. Российское государство управлялось не только централизованной администрацией. Когда нужен был общий совет, созывались земские соборы. Сельские общества, охватывавшие 5/6 населения, оставались во многих отношениях вне влияния бюрократии"[8]. В то же время Ю.В. Лепешкин признает, что демократические традиции в России не получили развития и что за реформами, которые могли бы создать условия для развития демократической политической культуры, "поистине с фатальной неизбежностью следовали контрреформы"[9]. В приведенных выше аргументах нет ничего нового. Проблема родственности досоветской и советской политических идеологий находилась в центре научных и политических дискуссий в послереволюционной России. Затем, когда свободные дискуссии стали невозможны, они продолжились в сочинениях эмигрантов, а позже вновь всплыли в самиздате. Два основных положения были сформулированы не позже 1918 г. Н.А. Бердяев и другие бывшие авторы знаменитого сборника "Вехи" указывали на преемственность и черты возрождения в России дореволюционных традиций. Именно тогда Н.А. Бердяев написал: "На поверхности все кажется новым в русской революции — новые выражения лиц, новые жесты, новые формулы господствуют над жизнью... Но попробуйте проникнуть за поверхностные покровы революционной России в глубину. Там узнаете вы старую Россию, встретите старые, знакомые лица. Бессмертные образы Хлестакова, Петра Верховенского и Смердякова на каждом шагу встречаются в революционной России и играют в ней немалую роль, они пробрались к самым вершинам власти. Метафизическая диалектика Достоевского и моральная рефлексия Толстого определяют внутренний ход революции. Если пойти в глубь России, то за революционной борьбой и революционной фразеологией нетрудно обнаружить хрюкающие гоголевские морды и рожи"[10]. В то же время сами большевики и их крайние ультраправые противники поддерживали (по разным причинам) мнение, что старая Россия полностью уничтожена и создана совершенно новая культура (или антикультура). С точки зрения крайних противников тезиса о преемственности большевистской власти, она "ни по своим собственным воззрениям, ни объективно" не была "национальным правительством России; она интернациональна по самой своей сути"[11]. Эта дискуссия продолжалась в сочинениях зарубежных авторов. До Второй Мировой войны на Западе господствовало убеждение, что советская идеология является новым феноменом, марксистским, но не "русским" по своей сущности. Однако после восстановления И.В. Сталиным некоторых национальных символов в 1940-е годы появились сторонники противоположного мнения. В обоих случаях, до того как несколько важных исследований в 1950-х и 1960-х годах установили различие между официальной идеологией и доминирующими представлениями широких масс, почти ни у кого не возникало сомнений в их идентичности. В соответствии с концепцией "тоталитаризма", официальная советская идеология, а вслед за ней и представления населения, считались более близкими к идеологии фашистских Германии и Италии, чем царской России. Концепция политической культуры, а именно идея преемственности и силы культурных традиций, использовалась для объяснения несоответствия между идеологией и доминирующими представлениями в Советском Союзе и других социалистических странах. Однако сами традиции можно рассматривать по-разному. Российская история богата фактами и событиями, и, как верно отмечает Н. Петро, "проницательный" исследователь без труда отыщет множество подтверждающих мнений из разных источников, «доказывающих» его точку зрения на российскую политическую культуру"[12]. В наиболее экзотических случаях политическая культура даже рассматривается как нечто таинственное, не поддающееся логическому объяснению, поскольку она не содержится явно в каких-либо документах или физических объектах и может быть постигнута только посредством интуиции исследователя. Такой подход можно найти, например, в эссе гарвардского историка Э. Кинана "Политические нравы жителей Московии". Российская политическая культура обсуждается в нем без единой цитаты из источников и практически без ссылок на отдельные эпохи, события или действующих лиц, поскольку, по мнению автора, главной целью русских было намеренное сокрытие "глубинных структур" от иностранцев[13]. Вывод Э. Кинана об абсолютной уникальности практически каждой черты российской политической культуры крайне спорен. Проблема состоит в том, что при рассмотрении так называемой "российской политической традиции" исследователи политической культуры склонны к произвольному отбору фактов без учета исторического периода. Уже давно отвергнутый серьезными историками, этот метод еще жив в традиционных эссе российских авторов о "судьбе России" и полуисторических, полуполитических сочинениях многих зарубежных деятелей, вроде Т. Самуэли и Р. Пайпса[14]. Их аргументы некритично повторяются во многих описаниях российской политической культуры[15]. Главную роль в таком подходе играют политические соображения. По наблюдению американского историка А. Даллина, "подчеркивание особых и неизменных (скорее всего и не способных к изменениям) черт российской истории приятно тем, кто рассматривает советский режим как крайне далекий и, вероятно, неспособный на исправление, оно больше всего отвечает их взглядам. Наиболее громогласные аргументы в поддержку исторического детерминизма, представляющие советскую систему как продолжение российского прошлого (временами сопровождаемые мнением, что "каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает"), раздаются с наиболее воинствующих и антисоветских позиций"[16]. Идея о том, что российская политическая культура не способна изменяться и всегда останется "самодержавной" или "тоталитарной", резко враждующей с "Западом" (в который нередко включают и некоторые части СССР, такие, как республики Прибалтики и Украина), хорошо подходила политикам, выступавшим за жесткую линию по отношению к Москве и предсказывавшим, что режим падет, а страна развалится, не выдержав давления извне. Поскольку "вестернизация" самой России при этом считалась невозможной, такая точка зрения бралась на вооружение людьми, заинтересованными в отделении от СССР (и советской империи) тех частей, которые могли быть ассимилированы Западом. Точно так же предположение, что русские - в основе своей европейцы, прошедшие аналогичный, хотя и более медленный, путь к "современности", и обладающие собственными "демократическими" традициями, подкрепляло взгляды тех, кто выступал за диалог и сотрудничество, надеясь на постепенную эволюцию страны к демократии[17]. Оба взгляда, какое бы политическое значение им не придавалось, имеют мало отношения к реальной истории России, а метод произвольного отбора исторических фактов, который можно понять, или хотя бы счесть естественным в тенденциозных сочинениях, едва ли может быть использован при исследованиях политической культуры, если рассматривать последние как часть науки о политике, а не самой политики. Подход, которого придерживается большинство советологов, использующих концепцию политической культуры для изучения проблемы преемственности между дореволюционной Россией и СССР, характеризуется двумя основными недостатками: 1) традиционную российская политическая культура помещается на одномерные весы, которые все измеряют путем сравнения с идеализированным образом западной демократии; 2) факты и события российской истории, представления и концепции анализируются вне их исторического контекста и "модернизируются" под влиянием современных представлений. Хороший пример обеих тенденций - статья американского советолога Р. Такера "Советология и российская история"[18]. По мнению Такера, каждому событию или фигуре в советской истории можно найти аналогию в российском прошлом: И.В. Сталин напоминает Ивана Грозного, М.С. Горбачев - Александра II, крах социализма привел к новому смутному времени, и т.д. По какой причине Такер называет этот подход "историческим", не вполне понятно. В действительности он как раз явно неисторичен, поскольку не учитывает исторический контекст и придает чрезмерное значение поверхностному сходству. Критикуя такой "исторический" подход к культуре, который также применяется в сочинениях на российские темы З. Бжезинского, Р. Пайпса, С. Уайта и других, французский политолог Б. Бади отмечает, что его основной изъян - отрыв действующего лица от культуры, поскольку первое считается пассивным, а вторая - неизменной. По словам Б. Бади, этот подход "приводит к двойному тупику: нисколько не раскрывая условий формирования культуры, он представляет культуру как исключительно статичный феномен, который самовоспроизводится из эпохи в эпоху". Далее Б. Бади замечает: "Социализацию и воспроизведение ни в коем случае нельзя накладывать на концепцию культуры, если это ведет нас только к тому, чтобы видеть настоящее как простое продолжение прошлого, а культуру - не более, чем средство консервации"[19]. Из всей общности фактов, событий или феноменов в истории страны всегда возможно отобрать те, которые с первого взгляда выглядят похожими (или непохожими) друг на друга. Вопрос в том, имеем ли мы достаточно оснований, чтобы в том или ином случае говорить о тенденции, а не просто о том, что определенные события произошли в одной и той же стране (или, более точно, на одной и той же территории, поскольку страны со временем меняются)? Р. Такер, просто постулирующий сходство, даже не задается этим вопросом. Его критики, которые, как, например, А.И. Солженицын, всего лишь выдвигают противоположный постулат, также не ближе к реальности[20]. Анализ эволюции российской и советской политической культуры не должен заключаться в конструировании пустых аналогий или в простом отрицании тезиса о преемственности. Необходимо изучать конкретные системы представлений в конкретные периоды, то, каким образом они переходят к следующему поколению и как меняются в процессе перехода. Только рассматривая политическую культуру не как некую "субстанцию", которая "живет и звучит веками" в душе русских людей[21], а как систему представлений, которая в данной конкретной форме существует только в данный конкретный период, можно лучше понять механизм преемственности в российской (и не только российской) истории. Изучение политической культуры в историческом контексте отвергает ее "модернизацию", подразумевающую ее определение через современные термины, наделение событий прошлого современным смыслом и использование современного общественного идеала в качестве абсолютного критерия и последней стадии исторического развития. Например, согласно Р. Такеру, традиционная российская политическая культура была "авторитарной" или "этатистской", и за периодами либеральных реформ, которые сами были частью этой традиции, обычно следовали контрреформы. Таким образом, по его мнению, проблема современного политического развития в России состоит в следующем: "Достигла ли Россия достаточного уровня зрелости и прогресса, чтобы порвать со старой моделью и с входившей в нее полуизоляцией от внешнего мира, одновременно развивая подлинно российскую форму цивилизации? Или после окончания нынешнего смутного времени она пойдет на очередной цикл?"[22]. Использование Такером таких терминов, как "зрелость" и "прогресс" ясно свидетельствует о его видении истории как прогрессивного движения к "современному" (или "западному") миру, видении, которое в действительности является разновидностью теории политической модернизации или политического развития. Основная проблема таких теорий заключается не в том, что в своих наиболее радикальных формах они порой подходят вплотную к признанию "политико-культурного превосходства", хотя это и опасно само по себе. Методологическая ошибка состоит в том, что история подвергается реинтерпретации с точки зрения современных целей и идеалов, и с этой точки зрения не важно, что считается таким идеалом - "демократия", "коммунизм", "три принципа Сунь Ятсена" или что-либо иное. С исторической точки зрения слова о том, что "традиционная российская политическая культура" была "авторитарной", "демократической", "коммунистической", "гуманной" или "негуманной", "империалистической" или "антиимпериалистической" не просто истинны или ложны. Вести дискуссию в таких терминах – это значит практически ничего не говорить об анализируемой культуре, поскольку они либо не существовали в дореволюционной России вовсе, либо имели совершенно иное значение. Вместо того, чтобы подгонять терминологию под описание совершенно иных реалий, исследователь истории политической культуры должен попытаться "перевести" на язык современной науки то, что концепции той или иной эпохи означали для людей данной эпохи. Советская политическая культура: проблемы методологии Некоторые исследования советской политической культуры, в отличие от российской, оказались более плодотворными. Наиболее убедительные обобщения по этой теме основаны на результатах Гарвардского проекта по изучению советской общественной системы, который формально не применял концепцию политической культуры, а методологически представлял собой часть широкого направления "психо-культурных исследований" и в наибольшей степени подвергся влиянию концепции "модальной личности"[23]. Основной публикацией проекта стала книга А. Инкелеса и Р. Бауэра "Советский гражданин". На основе разнообразных интервью с несколькими сотнями эмигрантов из СССР, которые разными путями оказались на Западе до, во время и сразу после Второй мировой войны, а также используя ответы на письменные вопросники, предложенные приблизительно двум тысячам таких же эмигрантов, отобранных случайным образом для того, чтобы наиболее точно отобразить социальный состав советского общества, авторы создали весьма убедительное изображение различных аспектов жизни в сталинском СССР, включая "ценности и представления людей, их надежды и разочарования"[24]. После Гарвардского проекта проводились и другие исследования, основанные на интервью с эмигрантами[25]. Большинство специалистов по политической культуре используют в своем анализе интервью и данные социологических исследований. По сути дела, данные интервью были основным источником для создателей этой концепции – Г. Алмонда и С. Вербы - и многих их последователей[26]. Однако большинство исследователей советской политической культуры вынуждены были обращаться к иным источникам, поскольку возможности прямого интервьюирования советских граждан были крайне ограничены, а непосредственное проведение опросов в СССР было вовсе невозможно. Осознавая эти ограничения, А. Браун предложил целый набор источников, которые можно применять вместо результатов опросов. Этот набор, не считая интервью с эмигрантами, включает: художественную литературу, воспоминания, историографию и официальную литературу по созданию "нового человека" и "коммунистического сознания" (содержащую не только официальные коммунистические лозунги, но и критику существующих "недостатков", которые могли отражать действительно существующие ценности и установки)[27]. Н. Петро подвергает критике подход А. Брауна, указывая, что использование подобных "субъективных" источников само по себе ведет к искаженным выводам, так как оно "не дает и той малой доли объективности, которую обеспечивают правильно проведенные опросы", но "служит главным образом для подтверждения априорных предположений исследователя относительно российской политической культуры и слишком легко отбрасывает свидетельства, которые могли бы привести к иным интерпретациям"[28]. Эта критика бьет мимо цели: источником искажений являются не сами источники, а способ их интерпретации. Для исследователя ценны все источники, и в некотором смысле все они "субъективны", поскольку все продукты человеческой деятельности "искажены", так как несут на себе отпечаток представлений их создателей. В то же время сам этот факт дает возможность исследовать эти отраженные в источниках взгляды. Если бы точную информацию можно было получить только из интервью, то ни археология, ни даже история не могли бы существовать как научные дисциплины. В то же время "точность" ответов респондентов также не бесспорна, поскольку на них могут влиять самые разные факторы. Голые цифры социологического исследования в любом случае приходится интерпретировать, а запись углубленного интервью очень мало отличается от статьи или воспоминаний того же автора. В любом случае можно говорить только о степени "точности", и многое зависит от методологии, используемой для анализа источников. Н. Петро прав, критикуя субъективизм в исследованиях советской политической культуры, но он не верно указывает его причину. Субъективизм скрывается не в характере источников, а в том, как с ними обращаются многие ученые - включая самого Н. Петро[29]. Представляется, что многие исследователи советской политической культуры пользуются набором А. Брауна, но они редко обсуждают методы их анализа. В итоге они просто отыскивают в этих источниках те взгляды, которые, по их собственному мнению, отражают наиболее распространенные представления. Следующий пример может служить иллюстрацией того, как подобное обращение с источниками может приводить к чрезвычайно спорным выводам. В одной из своих статей о советской политической культуре Браун указывает, что одной из "центральных ценностей доминирующей советской политической культуры является требование "порядка". Он иллюстрирует свой аргумент цитатой из статьи иностранного корреспондента в Москве и мнениями двух представителей советской интеллигенции. А. Браун пишет: "Надежда Мандельштам, высказываясь по поводу страхов интеллигенции о том, что случится, если когда-нибудь "толпа" выйдет из повиновения ("Нас первыми перевешают на фонарях"), заметила: "Всякий раз слыша эту постоянно повторяющуюся фразу, я вспоминаю слова Герцена об интеллигенции, которая так боится своего народа, что предпочитает ходить в цепях сама, если народ тоже останется закован". Андрей Амальрик пересказывает отзыв русского рабочего о политических беспорядках, как тот выражался, в 1968 г. в Чехословакии: "Что это за правительство, - спрашивал рабочий, - если оно терпит такой беспорядок? Власть должна быть такой, чтобы я боялся ее, а не она меня!"[30]. На основании этих высказываний А. Браун приходит к далеко идущему выводу, о том, что настроение интеллигенции и рабочих в целом "может рассматриваться как неподходящая почва для роста демократии"[31]. В поддержку своей точки зрения далее он приводит историю, описанную британской журналисткой М. Деджевски, которая на Красной площади слышала разговор каких-то людей, одобрявших разгон демонстрации крымских татар. С точки зрения самого А. Брауна, который призывал к использованию возможно большего количества источников и к сравнению источников друг с другом, этот вывод хорошо обоснован: использовано несколько источников, и выраженные в них мнения оказались сходными. Но отражают ли эти мнения доминирующее представление? Разумеется, во всем объеме источников без труда можно найти столько же иных и даже совершенно противоположных мнений. Значит, утверждать на основе трех рассматриваемых высказываний, что какая-либо из приведенных точек зрения должна рассматриваться как часть доминирующей политической культуры, у автора нет никаких оснований, кроме собственной интуиции. Более того, А. Браун использует все три источника так, как будто они точно отражают исследуемые мнения. Однако из комментариев их авторов вполне ясно, что все они не согласны с мнениями, которые якобы слышали. Поэтому появляются значительные основания считать, что на пересказ ими чужих слов повлияли их собственные взгляды и позиция. Следовательно, мы не можем сказать, насколько точно они передают представления даже отдельных людей, а тем более наиболее широко распространенные представления. Все это не означает, что данные источники не имеют ценности для исследователя. Они дают точную информацию не о тех, о ком в них говорится, но о самих рассказчиках. Можно сказать с абсолютной точностью, что они точно отражают представления самих Н.Я. Мандельштам и А.А. Амальрика (поскольку в данной работе не изучаются политические представления британских журналистов, случай с М. Деджевски здесь не обсуждается). Какие же более или менее достоверные выводы мы можем сделать на основе источников, приведенных в статье А. Брауна? Они дают основание сказать, что по крайней мере среди части советской интеллигенции, а точнее, в диссидентских кругах (к которым принадлежали и Н.Я. Мандельштам, и А.А. Амальрик), существовали представления, согласно которым не следовало бояться "народа" и правительства, следует осудить советское вторжение в Чехословакию и поддерживать политическую либерализацию в последней. Конечно, эти выводы очень скромные, но зато они лучше обоснованы. Не исключено, что они представляют доминирующую политическую культуру, но в связи с тем, что количество источников ограничено, эти представления могут оказаться характерными лишь для части политической субкультуры советских диссидентов. В последнем случае они не обязательно противоречат данной Брауном характеристике доминирующей политической культуры, если она окажется верной. Но если изучение большего числа источников, желательно с использованием репрезентативной выборки, покажет, что на самом деле они характерны и для большинства населения, то вывод Брауна о советском обществе до начала горбачевских реформ окажется неточным. Другой пример распространенного отношения к источникам содержится в книге С. Уайта "Политической культура и советская политика". Это исследование оценивает уровень политической активности в СССР на основе официальной советской статистики, которая говорила о росте такой активности, выражающейся в участии в выборах, членстве в комсомоле и официальных профсоюзах и посещении официальных лекций и "политинформаций". С. Уайт признает, что все эти виды деятельности были не вполне добровольными и, следовательно, не обязательно выражают идеологическую поддержку режима. Однако, по его мнению, эти данные позволяют сделать вывод, что "общий уровень социально-политической активности сильно вырос за весь период советского правления"[32]. С. Уайт видит в СССР игру, сходную, по его мнению, с той, что происходит в политике его собственного общества, и по аналогии приписывает ей тот же смысл, относя к политической активности участие в голосовании, посещение политических митингов и лекций, членство в политических группах. Однако крайне сомнительно, что в советских условиях все эти принудительные действия каким-либо образом были связаны с политической активностью. Большинство из приводимых цифр, вероятно, были искажены с пропагандистскими целями. Но если даже они истинны, они не показывают ничего, кроме, может быть, "мобилизационных возможностей" режима. Даже для тех, кто делал официальную политическую карьеру, такие поступки были всего лишь признаком "хорошего поведения", но участие в политике - влияние на принятие политических решений – осуществлялось в СССР совершенно иным образом. Участие большинства остальных, особенно тех, кто не верил официальной пропаганде, в официальных "политических" мероприятиях и группах говорило либо о пассивности и нежелании навлекать на свою голову неприятности, либо о страхе перед последствиями неучастия. На самом деле политическая активность, разумеется, существовавшая в СССР, как и в любом другом обществе, проявлялась в совершенно иных видах деятельности: невидимой борьбе за власть в парткомах и других бюрократических учреждениях, влиянии на правительство, используя цепочки связей, эзоповых дискуссиях в печати о реальных проблемах, посещении неофициальных концертов, лекций и театральных постановок, чтении самиздата и т.д. Этот феномен заметили, например, У. Ди Франческо и Ц. Гительман, делающие вывод, что в советской системе "существуют осмысленные формы участия", но оно осуществляется "либо вне формальных институтов участия, либо внутри этих институтов, но не официально установленными путями". Согласно этим авторам, "советские люди связаны с политико-административной системой следующим образом: они участвуют в формально демократическом процессе принятия решений, но значительно большие усилия вкладывают в попытки оказать влияние на пути реализации этих решений." На основе этих выводов У. Ди Франческо и Ц. Гительман подвергают сомнению классификацию типов политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы и высказывают мнение, что "советская политическая культура не является ни демократической, ни подданической, а представляет собой сплав традиционных, дореволюционных форм взаимоотношений между гражданами и государством и надстройку из институтов участия, которые во многих отношениях поверхностно напоминают аналогичные институты в западных демократиях"[33]. Оксидентоцентризм исследований советской и российской политической культуры Реформы М.С.Горбачева, создавшие атмосферу гласности, дали возможность советским и иностранным исследователям установить прямые контакты с населением без сокрытия истинных целей этих контактов. Это привело к стремительному росту числа социологических исследований и опросов общественного мнения, которые отчасти были предназначены для проверки прежних теоретических выводов, в том числе и относительно советской политической культуры. Первых специалистов, проводивших такие исследования и анализировавших их результаты, поразило то, что ценности и представления советского населения в общем оказались близки к характерным для жителей западных демократий. Большинство исследователей на этой стадии делали вывод, что хотя изучаемое население по отдельным "демократическим" установкам "отставало" от западных демократий, его общий "демократический" уровень слабо отличался от того, который существует в наиболее стабильных демократических странах, и близок к уровню, наблюдающемуся в западных государствах с более молодым и менее стабильным демократическим строем. Более того, оказалось, что демократические ценности более популярны среди молодежи, из чего делался вывод, что СССР (а позже Россия) имеет хорошие перспективы для демократизации[34]. Эти выводы привели некоторых авторов к критике теории вечного авторитаризма российской традиции и ее непосредственного влияния на современную политику. Так, в опубликованной в 1993 г. книге на основе результатов первых исследований У. Рейзинджер утверждал, что аргументы в пользу влияния "российской" политической культуры на современную российскую и советскую политику "слабо обоснованы"[35]. Однако по мере того, как советский, а затем российский режим смотрелся все менее и менее демократично, особенно после кровавого столкновения между Ельциным и Верховным Советом в 1993 г., прогнозы становились все более острожными. В том же году Дж. Гибсон и Р. Дач после сравнения результатов их первого московского социологического исследования более масштабным опросом, представляющим население всей европейской части России, все еще утверждали: "есть основания считать, что в государствах бывшего СССР идет формирование демократической политической культуры, и что представления, ценности и установки простых граждан будут питательной почвой стремления к дальнейшей демократизации". Однако далее эти авторы делали вывод, что в современной России "ценности, распространенные в настоящее время, относятся к более простым ценностям типа "правления большинства", в то время как более сложные ценности типа "прав меньшинства" не получили широкого распространения"[36]. В 1995 г. А. Миллер, В. Хесли и У. Рейзинджер, обнаружив значительные различия между пониманием демократии политической элитой и широкой публикой в России и на Украине, сделали вывод, что "эволюция в сторону демократического, рыночноориентированного общества окажется медленной и трудной"[37]. Неожиданный успех на выборах партии В. В. Жириновского в декабре 1993 г. породил новые сомнения в ранних заключениях о глубине демократических чувств у русского народа. С ростом дискредитации "демократов" и "демократических" реформ в России среди ученых и журналистов получили распространение теории о возврате вечного российского "авторитаризма" и "имперского сознания" и вновь оживились их прежние сторонники[38]. Возникает вопрос: почему исследователи, вместо того чтобы намечать возможные будущие тенденции, плетутся в хвосте событий, пытаясь объяснить их постфактум? Верно ли что, как заметил А. Даллин, опросы западного типа первой волны "были поверхностными, а их результаты оглашались только тогда, когда это было "политически корректно", и что "к концу 1993 г. по крайней мере существенная часть российского населения - можно даже выделить конкретные демографические группы - либо отбросила такие идеи, либо как минимум пребывала в замешательстве относительно их верности"?[39]. Или, может быть, из-за разочарования в проводимых в России опросах западного типа нужно согласиться с аргументами таких авторов, как Ф. Флерон и М. Макфол, которые вообще отрицают какую-либо роль политической культуры?[40] Отрицание культурного детерминизма и даже "мистицизма" традиционного подхода к российской политической культуре, утверждающего, что российские политические представления и политическая практика мало изменились со времен Ивана Грозного и что поэтому российская политическая система обречена вечно быть автократической, не обязательно должно вести к выводу, что политическая культура не играет вовсе никакой роли. Основной проблемой в подходе к России большинства политологов (как западных, так и российских, поскольку российская политология некритично позаимствовала западные, прежде всего англо-американские, теории и методы) является европо- (или оксиденто-) центризм. Российский исследователь Ю.С.Пивоваров, безусловно, прав, говоря, что этот европоцентричный подход не дает исследователям "увидеть своеобразие русской политико-правовой культуры, ее национальных традиций и отличительных черт. Все то, в чем политический опыт Росии не совпадает с аналогичным опытом Западной Европы, объясняется обычно "отсталостью", "азиатчиной" и т.п." В своей книге о русской политической культуре после реформ царя Александра II Ю.С. Пивоваров указывает на еще одно слабое место западных исследований: непропорционально большое внимание, уделяемое одному или нескольким отдельным сторонам развития страны, наиболее знакомым западным исследователям. В результате не учитываются целые пласты материала, и анализ получается односторонним[41], или, снова цитируя А. Даллина, "слишком упрощенным, одномерным или "американским"[42]. При применении качественных методов это означает сведение любой российской политической проблемы независимо от исторического периода к противостоянию западников и антизападников, реформаторов и консерваторов, а позже - демократов и коммунистов. В работах, основанных на опросах западного типа, это ведет к рассмотрению только тех представлений, которые (согласно "теории демократии") должны определять стабильность демократических режимов по всему миру. Альтернативный этому подход заключается в исследовании политической культуры как системы, находящейся в процессе постоянного изменения и развития, не преувеличивающий и не преуменьшающий значения каких-либо из ее элементов. 2.2. Исследования, посвященные российским "демократам"Справочная литература Первой реакцией ученых на появление большого числа новых политических групп была их каталогизация. В СССР вышло множество различных справочных изданий, содержащих общую информацию о многочисленных группах и их недолгой истории, а также имена лидеров и интервью с ними, программы групп и другие документы[43]. Подобные справочники публиковались и за рубежом[44]. Иногда эти издания сопровождались аналитическими введениями. Такие статьи обсуждаются ниже. Справочные издания обычно содержат более или менее ценный материал, но без серьезного анализа. Кроме того, они сильно различаются по полноте и репрезентативности. Некоторые из них посвящены лишь отдельным регионам, другие не делают различия между крупными и незначительными группами. Подобные справочники могут служить важным источником для исследования, но не содержат теоретических обобщений. Литература описательного характера Авторы первых работ о российском "демократическом" движении ставили перед собой задачу описать входящие в него группы либо по всей России, либо в отдельных регионах, нередко в хронологической последовательности. Первые исследования подобного рода публиковались в основном вне России, но позже российские "демократические" группы, особенно в провинции, обзавелись собственными летописцами[45]. Главной целью авторов обычно было стремление донести до читателя формальные черты нового социального явления. Большинство из них брали материал в средствах массовой информации, хотя некоторые интервьюировали лидеров различных групп[46]. Значение этих книг - не столько в редких попытках анализа, сколько в собранных данных, которые в некоторых случаях больше негде найти. Конечно, авторы таких работ пытались ответить и на некоторые общие вопросы. Наиболее часто задаваемый и очевидный из них - почему независимые политические группы в России не выросли в настоящие политические партии, которые могли бы завоевать поддержку устойчивой и значительной части электората, или хотя бы не превратились в сплоченные и стабильные движения, подобно тем, что возникли в республиках Прибалтики. Отвечая на этот вопрос, британский историк Дж. Хоскинг пишет: "В большинстве нерусских республик народные фронты уже приняли вызов… Однако в России ни одно движение не оказалось готовым решать подобные задачи, так как врага нельзя было определить как простую этническую мишень: угнетателями и палачами русских обычно были тоже русские, что сильно осложняло эмоциональную ситуацию"[47]. Подобный аргумент, очевидно, чрезмерно упрощает реальное положение, поскольку более или менее стабильные и влиятельные движения сформировались, кроме республик Прибалтики, только в Молдавии, Армении, Азербайджане и в некоторой степени на Украине, а это еще не большинство нерусских республик. Наличие единого этнического врага, вероятно, играло роль, но было не единственным фактором. Например, в республиках Средней Азии единые движения против режима не сформировались, хотя коммунистические репрессии тоже могли быть интерпретированы в антирусских терминах. Хотя Дж. Хоскинг верно ищет ответ в области представлений членов групп, одной лишь установки на общего врага для формирования оппозиционного движения едва ли достаточно: следует анализировать всю систему представлений. Соглашаясь с аргументом Дж. Хоскинга, П. Дункан называет еще несколько причин неудачи создания Народного фронта как национального движения: роль официальных культурных организаций, наподобие Союза писателей, которые в России якобы были "нейтрализованы или оказались в лагере консерваторов", враждебность партийно-государственного аппарата к демократизации, тот факт, что "многие российские реформаторы состояли в КПСС (как и в нерусских республиках) и не желали порывать с Горбачевым", и "просто обширность России", которая "затрудняла сплочение общенационального движения во враждебных условиях". Согласно П. Дункану, к основным причинам относились также широко распространенное ожидание раскола в КПСС и образования на ее основе демократической партии, общая дискредитация идеи "партии" у населения и отсутствие различий между демократическими партиями в глазах избирателей[48]. Некоторые из этих положений крайне спорны или неточны. Например, большинство официальных культурных организаций в России, например союзы журналистов, кинематографистов и театральных деятелей СССР, поддерживали демократические реформы и ни в коем случае не находились в консервативном лагере, и даже в Союзе писателей СССР по этому вопросу произошел раскол. Хотя эти союзы формально были всесоюзными, наибольшим влиянием они обладали в Российской Федерации, которая, в отличие от других республик, не имела собственных творческих союзов. Враждебность партийно-государственного аппарата реформам и членство многих реформаторов в КПСС характерно и для других республик, включая и часть тех, в которых образовались всенародные движения. А что касается некоторых других факторов, таких, как схожесть программ "демократических" партий, непопулярность самой идеи "партии" и ожидание раскола в КПСС, то все эти установки сами по себе являются составными частями "демократической" политической субкультуры, и через нее и нужно оценивать их значение. Более глубокий анализ новых независимых политических групп в России можно найти в книге британского исследователя Р. Саквы "Российская политика и общество". Саква, определяющий российскую партийную систему после августовского путча (1991 г.) как "эмбриональную, а не полноценную многопартийность", утверждает, что "это частично отражает общество, в котором зарождались новые партии"[49]. По мнению Р. Саквы, на развитие новых российских партий, большинство из которых появилось до 1991 г., влияли следующие факторы: 1) сходство их программ, не обращенных к какому-либо четко определенному или конкретному слою избирателей; 2) доминирование отдельных лидеров в партиях; 3) враждебность населения идее партийной политики; 4) отток наиболее активных и способных людей в новые административные структуры; 5) отсутствие четкой социальной базы новых партий; и 6) возрастание регионального характера российской политики[50]. Выявление этих факторов, которые отчасти повторяют приведенные П. Дунканом, основано на внимательном наблюдении за деятельностью новых российских политических групп. Однако Р. Саква не объясняет причину возникновения самих этих факторов в последний период существования СССР: например, почему публика враждебно относилась к идее партийной политики, или почему наиболее талантливые люди предпочитали работать в исполнительных органах российского правительства и считали, что такая деятельность более важна и престижна, чем участие в партийной работе. Кроме того, Саква подробно не анализирует, почему новые партии зачастую были "партиями одного человека", и поэтому ассоциировались скорее с личностью своих лидеров, чем с какими-либо идеологическими программами. Это может быть объяснено только на основе изучения отношения членов этих групп и партий к власти, к политическому процессу в России и к их собственной роли в нем. Но Саква не пытается этого делать. Для большинства ранних (и некоторых более поздних) западных работ о российских "демократах" характерно отсутствие систематического отбора источников. В большинстве таких исследований даже не делается попытки обсудить значимость источников, проблемы репрезентативности, искажения и методологию в целом. Это часто ведет к однобоким интерпретациям. Например, все интервью с членами советских независимых групп, использованные в статье Дж. Хоскинга "Начало независимой политической деятельности", проводились в Москве, а в девяти из тридцати шести ссылок на статьи или интервью с членами российских независимых групп цитируются работы Б. Ю. Кагарлицкого и интервью с ним, хотя он представляет малозначительное и весьма специфическое течение в "демократическом" движении[51]. Работы Б. Ю. Кагарлицкого непропорционально часто цитируются во многих англоязычных исследованиях[52]. Это может быть частично объяснено доступностью источника: Б.Ю. Кагарлицкий был первым и до недавнего времени единственным членом новых независимых политических групп, который сумел опубликовать свои сочинения за границей. Другой особенностью ранних западных работ была их нередкая неспособность объективно определить роль отдельных партий или групп; собственные заявления последних об их целях, численности и влиянии часто принимались за чистую монету. Одна из таких статей - "Христианская демократия в России" Р. Саквы[53]. В своей описательной части статья очень полна и является ценным примером исследования зарождения и развития христианско-демократических организаций в позднесоветский период. Во второй части приводится английский перевод основных документов крупнейшей из этих организаций -- Российского христианско-демократического движения (РХДД). Но в теоретической части статья явно преувеличивает роль РХДД, рассматривая его как соразмерное, и даже как почти равное христианско-демократическим партиям в Германии и некоторых восточно-европейских странах. В действительности христианские демократы не играли значительной роли в российском "демократическом" движении и исчезли вскоре после публикации статьи Р. Саквы (а некоторые из их лидеров оказались в рядах национал-коммунистической оппозиции). Более того, Р. Саква, явно выдавая желаемое за действительное, приписывает лидерам РХДД принадлежность к русской православной традиции. Верно, что в ХХ в. христианские идеи играли важную роль в истории российской политической мысли, однако сама православная церковь никогда открыто не поддерживала политическую деятельность, особенно в западных формах, и серьезной христианско-демократической партии в России никогда не существовало - ни до 1917, ни после 1991 г. Политизированная литература Влияние политических взглядов авторов особенно заметно в советских работах обычно у тех из них, которые либо сами являлись членами исследуемых групп, либо были близки к ним. Оно проявляется в откровенном стремлении воздействовать на отношение властей к описываемым группам. Именно таким образом можно объяснить наличие многочисленных цитат из Маркса и Ленина в первой работе такого типа "О самодеятельном движении общественных инициатив" О.Г. Румянцева, лидера московского клуба "Перестройка", явной целью которого было объяснить властям полезность независимых групп[54]. Та же самая тенденция просматривается в статье В.Н. Березовского и Н.И. Кротова "Неформалы" - кто они?"[55]. Независимые группы рассматриваются в таких работах как движущая сила горбачевской перестройки, которая трактуется как процесс развития "социалистической демократии"[56]. В то же время находились и авторы, которые, следуя в русле официальной политики, выступали за контроль КПСС над новыми независимыми группами[57]. Тем не менее эти работы уже содержат некоторые интересные обобщения, которые подвергаются проверке в нашем исследовании. О.Г. Румянцев, например, первым указал на возможность "говорить об определенном единстве в движении общественных клубов, поскольку оно есть и основано на схожей ценностной ориентации"[58]. А.Шершнев разработал модель общих социальных идеалов советских "демократов"[59]. Несколько подобных работ предложили классификацию независимых групп[60]. Во многие из этих классификаций входят не только политические, но также экологические, профессиональные, студенческие группы и организации местного самоуправления. Некоторые авторы, например Б.И. Коваль, для их классификации используют различия в политических программах. Но в России этот принцип может привести к недоразумениям, поскольку официальная программа группы, не говоря уже о названии, зачастую не отражает ее реальную позицию. Подтверждение этому - тот факт, что Б.И. Коваль помещает такие различные группы, как Либерально-демократическая партия В. В. Жириновского и три конституционно-демократические партии в один раздел[61]. В. Н. Березовский и Н.И. Кротов используют как программы, так и организационные принципы, что делает всю их классификацию непоследовательной. Например, они объединяют в одну категорию все "фронты" и "союзы". Из-за этого такие различные группы, как народные фронты ("демократические") и объединенные фронты трудящихся ("прокоммунистические") оказались в одном разделе, но "движения типа "Память" и "группы, близкие к движению "Память" помещены в две разные категории[62]. Российские "демократы" и общие теории На более поздней стадии исследователи российских "демократических" групп обратились к их анализу в свете общих теорий политологии. Иногда такой анализ сводился к стремлению показать верность какой-либо теории на российском материале. Для достижения этой цели отбирались только те источники и мнения, которые подтверждали уже сложившиеся взгляды исследователя. Многие социологи предупреждают об опасности такого подхода, который тем не менее широко распространен не только в работах, посвященных Советскому Союзу и России. Исследователи представлений ученых Дж.Н. Гилберт и М. Малкей писали: "В большинстве социологических исследований доминирует голос автора. Участникам рассматриваемых событий слово предоставляется лишь для подтверждения авторского мнения. В этом смысле социологические исследования, как правило, оказываются "пением в унисон". Мы полагаем, что при такой форме изложения суждения участников предстают в совершенно искаженном виде"[63]. Конечно, верно, что каждый автор приступает к исследованию, уже находясь в определенных заданных концептуальных рамках, которые так или иначе влияют на отбор материала. Однако исследователь обязан по меньшей мере помнить об этой проблеме и сознательно стараться избежать искажений, используя существующие методы и представляя результаты своей работы для критического рассмотрения. Несмотря на эти общеизвестные правила, многие авторы работ о российских "демократах" просто применяют к СССР методы и теории, сформулированные на основе реалий совершенно иных обществ. Например, Т. Кокс пытается понять "демократов" в терминах теории групп давления. Статья Кокса всего лишь фиксирует появление новых независимых политических групп, часть из которых он определяет как группы давления. Он указывает, что "отсутствие детальных исследований политического влияния этих групп" мешает "судить о том, насколько велико была их политическая роль". Несмотря на это, он заключает, что влияние некоторых групп было значительным[64]. Кокс предлагает два возможных объяснения роли новых групп. По его словам, их рост можно рассматривать либо как часть общего роста гражданского общества, основанного на плюрализме интересов, либо в контексте более глубокой структуры политической власти. Он находит недостатки в обоих объяснениях и призывает к дальнейшим исследованиям[65]. Кокс, однако, совершенно не затрагивает конкретные представления и субъективные цели движения, а его аргументы слишком общи и абстрактны. Некоторые авторы в своем анализе новых российских "демократов" применяют концепцию "социального движения". Теоретики "социальных движений" могут применять два совершенно разных подхода. Один из них рассматривает развитие новых социальных движений в России как результат взаимодействия государства и общества и совершенно не учитывает значения представлений их членов. В рамках этого подхода представления считаются полностью обусловленными государственными и общественными институтами и соотношением сил между ними. Второй подход, напротив, все внимание уделяет роли так называемой "идеологии движения"[66]. Первый подход можно найти в одном из ранних исследований советских "неформалов", написанном Дж. Баттерфилдом и М. Уэйгл[67]. Лишь часть этой относительно короткой статьи касается темы настоящей работы, поскольку ее авторы пытаются описать новые политические группы на всей территории СССР. Дж. Баттерфилд и М. Уэйгл подходят к процессу создания неформальных групп через концепцию отношений групп с государством и выделяют пять типов таких отношений в СССР; только два из них основаны на примерах российских "демократических" групп (общество "Мемориал" и клуб "Демократическая перестройка"). Сама типология остается спорной, поскольку каждый ее тип основан на одном-двух примерах. Но основной недостаток анализа Дж. Баттерфилда и М. Уэйгл в том, что они, приводя примеры действий неформальных групп и реакции на них центрального правительства и местных властей, не показывают причины этих действий и не обсуждают мотивы обеих сторон. Еще один пример пренебрежения субъективными мотивами и точками зрения - книга С. Фиша "Демократия с нуля"[68], в которой рассматриваются "демократические" группы в советской России с 1985 по 1991 г. С. Фиш использует концепцию "политического движения", и, как и Дж. Баттерфилд с М. Уэйгл, видит в их деятельности отражение противостояния государства и общества. С. Фиш начинает с детальной критики методов советологии. Он отмечает, что большинство доминирующих подходов к изучению советской действительности подменяет исследование истинного советского общества и истинных идей советских людей более легким анализом официальных советских теорий и документов. С точки зрения С. Фиша, это и привело к тому, что советологи не сумели предвидеть распад Советского Союза. Подобную критику очень легко вести задним числом, и она набирает все больше и больше популярности, но справедлива она лишь отчасти. Например, специалисты по советской политической культуре с самого начала делали различие между официальной и доминирующей политическими культурами и выпустили ряд обширных, хотя и не равноценных, исследований последней. В некоторых из этих исследований, хотя и не в большинстве, как один из вероятных сценариев на будущее обсуждался возможный крах Советского режима. В отличие от других критиков традиционных подходов к анализу представлений населения СССР и России, С. Фиш, похоже, разочарован изучением представлений вообще, поскольку, с его точки зрения, они вторичны по отношению к абстрактным процессам, происходящим в обществе, и полностью определяются ими. Описывая свой метод, С. Фиш пишет: "При рассмотрении государства будет значительно снижено внимание к идеологии и системам представлений, и точно также при объяснении организации и поведения участников общественной жизни не будут играть никакой роли понятия массовой политической культуры и психологии"[69]. Взамен С. Фиш предлагает собственную модель общественного развития в СССР, основанную на идее конфронтации между государством и обществом. Он определяет "государство" как "партийный аппарат, включая органы государственной безопасности и систему управления экономикой, действующий в рамках номенклатурной системы", а "общество" - как "организации, группы и отдельные лица, находящиеся вне государственных институтов"[70]. В случае Советского Союза, пишет С. Фиш, "центральной движущей силой построения нового политического общества является борьба между возникающими автономными организациями и институтами государственной власти"[71]. С этой точки зрения С. Фиш рассматривает процесс реформ в СССР и в России. Он утверждает: "либерализация права на создание независимых организаций не привела к формированию "гражданского общества" западного типа. Скорее, на развитие новых политических институтов и их отношения с государством сильно повлияло сохранение таких структурных барьеров, как система привязки к рабочему месту и государственный контроль над собственностью, включая средства производства и коммуникации"[72]. Говоря об основах своего подхода, С. Фиш пишет: "Центральный аргумент, выдвинутый в данном исследовании, состоит в том, что характер государственной власти дает ключ к пониманию независимого политического общества, возникшего в России в горбачевский период. Этот аргумент сводится к тому, что условия, по которым проводились выборы, государственные репрессии и контроль за политической деятельностью населения, а также слияние политики и экономики, - все это определило уровень мобилизации населения, содержание требований социальных движений и организационные формы, в которых они выражались, а также поведение и стратегию независимых политических ассоциаций. Аргументация по вопросу причинности рассматривает в качестве первичных структуру и характер государственной власти, а не представления, идеи и политическую ориентацию конкретных обладателей власти; доминирование, сопротивление и борьбу, а не модернизацию и развитие; случайные прорывы и "зависимость от пути", а не эволюцию; структуры политических возможностей и политическое предпринимательство, а не идеологию и культуру"[73]. Этот подход полностью исключает из работы социального механизма элемент сознательной деятельности и роль представлений. Но можно задать вопрос: даже если роль государства в СССР в самом деле была столь велика, каким образом его влияние на жизнь людей реализовалось на практике? Как в реальной жизни упомянутые С. Фишем "структурные барьеры" - система привязки к рабочему месту, государственный контроль над собственностью, включая средства производства и коммуникации, методы проведения выборов - формировали новое общество, включая новые независимые политические группы? Государство, общество и все политические группы состоят из людей и по крайней мере в этом отношении они не различаются. Государство и общество не общаются друг с другом непосредственно, как два трансцендентных существа; общаются друг с другом люди. Если внимательнее рассмотреть взаимодействие государства и личности, окажется, что личность не закаляется под ударами государства, как металл при ударе молота. "Удары", скажем, официальной государственной идеологии формируют личность с самого детства и воспринимаются как язык, понимаемый в широком смысле как язык символов, язык культуры. Поскольку официальная идеология не является единственным источником представлений отдельных людей, ее воздействие составляет только часть процесса социализации. События и влияния не заставляют людей действовать автоматически, как инструмент, или инстинктивно, как животное (за возможным исключением очень ограниченного числа ситуаций), но воздействуют на систему их представлений, в рамках которой люди принимают решения. Исключение представлений из процесса взаимодействия государства и общества ведет к построению чистой абстракции, схемы абстрактного взаимодействия фетиша государства и фетиша общества, в которой отсутствуют живые люди, так как людей без представлений не существует. Но именно так поступает С. Фиш, чей "новый" подход ни в чем не лучше всех тех старых, которые он подвергает столь яростной критике, поскольку в его книге нет места реальным людям с реальными мыслями и желаниями, а есть лишь абстрактные модели. Более подробный анализ представлений тех личностей, которых С. Фиш разделяет на две четкие категории, показывает, что взгляды некоторых государственных чиновников и некоторых членов наиболее "антигосударственных" групп в реальности были сходными и развивались в одном направлении, независимо от общественного положения их носителей. Взять, к примеру, "друзей реформ" (О.Г. Румянцев - младший научный сотрудник Института социалистической системы Академии Наук СССР и организатор ряда "демократических" групп и партий, и О.Т. Богомолов - академик, директор того же института и консультант ЦК КПСС), или их "враги" (решительный враг ревизионистского руководства Н.А. Андреева и один из членов этого руководства, член Политбюро Е.К. Лигачев). Таким образом, борьба велась не между абстрактным "государством" и абстрактным "обществом", а между реальными людьми и, конечно, между социальными группами, состоящими из этих людей с их идеями, побуждениями и желаниями. Более того, из-за тотального огосударствления всех сторон жизни в СССР, где все за малым исключением (бродяги, хиппи, артисты андерграунда) так или иначе принадлежали к государственной системе, провести границу между государством и обществом крайне затруднительно. Конечно, положение людей в государственной системе может влиять на их взгляды, но это влияние осуществляется отнюдь не прямо, а его формы и интенсивность различны, что делает невозможным определить взгляды человека лишь на основании его официального статуса. Попытки сделать это неизбежно ведут к ошибкам. С. Фиш делает такие ошибки, когда анализирует "демократическое" движение в России, явно стараясь подогнать представления его участников под свою схему. Можно только удивляться, почему С. Фиш, собиравший материалы не только в Москве, но и в четырех регионах России и взявший шестьдесят интервью у различных "демократов", не сумел заметить хотя бы нескольких мнений, не укладывающихся в его анализ. Согласно С. Фишу, "демократ" должен выступать за "либерализм" или "социальную демократию", как "эти термины обычно понимаются на Западе"[74]. В книге С. Фиша нет точного объяснения, в чем заключается это понимание, но в некоторых местах автор заявляет, что "демократия" связана с "выборами", "компромиссами", "партиями", которым симпатизирует или в которых состоит большинство населения. Впрочем, похоже, для С. Фиша сущность демократии самоочевидна, поскольку он рассматривает ее как "нормальное", "прогрессивное" состояние большинства государств, от которого отошла Россия. Язык и понятия современной западной (точнее, американской) политической системы он считает "нормальными", а их отсутствие, например, в Советской России, естественно, ненормальным. Ситуация в Советской России, по мнению С. Фиша, характеризовалась "почти полным забвением… "нормальных" форм политической коммуникации и исчезновением из политической жизни философских и организационных категорий, которые принимаются как должное в значительной части мира - социал-демократии, тред-юнионизма, либерализма, национализма, христианской демократии и так далее"[75]. Такое понимание мира показывает, что автор абсолютизирует тип культуры, в которой он получил образование и с которой знаком, и это делает его точку зрения необъективной. В действительности для большей части современного мира (все равно как считать - по площади, или по населению) - в Китае, Индии, почти всей Африке - упомянутые Фишем понятия не менее чужды, чем для России. Кроме того, говорить о широком распространении социал- и христианской демократии, скажем, в США, или утверждать, что большинство американских граждан обязательно поддерживают какую-либо политическую партию - явное преувеличение. Даже если согласиться, что существует идеальный "западный" образец политической культуры, попытка С. Фиша приписать российскому "демократическому" движению программу "подлинного перехода" к демократии[76] неизбежно приводит его к необоснованным обобщениям. Утверждая, что все российские "демократы" поддерживают "демократизацию общества"[77] или "рыночную экономику"[78], автор приписывает российским "демократам" такой уровень единства в понимании их целей (единства и между ними самими, и с абстрактной "западной" демократией), которого не было в действительности. Что касается "демократии", автор не замечает, что ее концепции, принятые у российских "демократов", очень сильно отличаются от "распространенных на Западе". Более того, трактовки "демократии" у разных "демократических" групп, например у анархистов, которые были очень активными участниками движения на ранней стадии и которых С. Фиш не упоминает вовсе, и у членов Демократической партии России, во многом различались. Что касается рыночной экономики, значительная часть движения (включая левых социалистов и анархистов) отвергала ее, а некоторые другие (например, социал-демократы) выступали за "мягкий" переход, очень отличающийся от того, который позднее избрал Е.Т. Гайдар. С. Фиш представляет все "демократические" группы как организации с чрезвычайно, или даже чрезмерно, демократической структурой, но приведенные им примеры неубедительны: например, Московское объединение избирателей в действительности управлялось очень узким кругом лиц. В сущности, его описание собраний русских "демократов" как гипердемократических и чуть ли не хаотических едва ли обнаруживает в них сходство с партийными собраниями в государствах со стабильной демократией. Источник всех этих неточностей - пренебрежение внутренней логикой представлений "демократов", предопределенное теоретической позицией С. Фиша. За недостатками предпринятого С. Фишем анализа "демократического" движения в Советской России стоит еще одна методологическая причина. Его собственные представления о социальной системе и сущности политического процесса в СССР таковы: существует фундаментальная дихотомия между обществом и всепоглощающим государством; государство оказывает абсолютное влияние на все социальные процессы, на "лицо" оппозиции и даже на личность; абстрактный "западный" мир - центр нормального развития цивилизации; в интересах самой России присоединиться к цивилизации; и, наконец, российское "демократическое" движение – главное орудие получения доступа к этой цивилизации. Симпатия С. Фиша к российским "демократам" очевидна. В его книге присутствует множество шаблонов обычного "западного" понимания демократии, особенно его "оксидентоцентризм", в котором, больше того, слышны отголоски риторики самих российских "демократов". Сам С. Фиш, вероятно, не согласился бы с таким выводом. Он обосновывает свою схему "государство -- общество" различными малоизвестными исследованиями "коммунистических" обществ, опубликованными на Западе. Однако внимательный взгляд на эти исследования ясно показывает, что большая часть, если не все, их авторов - бывшие граждане этих "коммунистических" стран. Это абсолютно естественно, поскольку представления российских (и восточноевропейских) демократов не возникли "с нуля". Эти представления, являющиеся главной темой настоящего исследования, долгое время распространялись в оппозиционно-мыслящих кругах и экспортировались на Запад эмигрантами, публиковавшими там свои работы. Не случайно С. Фиш, испытавший влияние идей российских "демократов", из всех существующих западных подходов к изучению Советского Союза и Восточной Европы, выбрал именно этот. Хорошо обоснованная критика С. Фишем некоторых западных политологов, не учитывающих представления и идеи простых людей в СССР, и их попыток приписать этим простым людям стереотипы официальной идеологии, могла бы привести его к иным выводам. Но для этого ему пришлось бы признать необходимость исследования реального содержания представлений, составляющих "демократическую" политическую субкультуру, а не постулировать их идентичность с пониманием демократии ее западными теоретиками. Еще один пример поверхностного подхода к "демократическим" представлениям - глава Г. Гилла, опубликованная в книге "Политика переходного периода".[79] Анализируя программы российских "демократов" не с точки зрения их внутренней логики, а с позиции их соответствия "настоящей демократии", Г. Гилл заключает, что лишь немногие "демократические" партии "разработали такие детализированные парламентские программы, которые могли бы послужить им руководством по осуществлению планов, если бы они пришли к власти", и что "идеологические и политические различия переплетались друг с другом, и поэтому причины присоединения к партиям были в большей степени личными, чем идеологическими"[80]. Хотя роль личных причин в присоединении к партиям в России, как и во многих странах, была существенной, Г. Гилл не замечает представлений, отличных от тех, к которым он привык, и по этой причине отвергает важность представлений вообще. Исследования представлений российских "демократов" Существующую литературу о представлениях членов российских "демократических" групп можно разделить на три основных типа. Первый рассматривает эти представления как всецело демократические, т. е. аналогичные тем, которые обычно используются в западных теориях демократии и политических группах. Авторы, придерживающиеся этого взгляда, усматривают главный источник этих представлений в западных теориях демократии, политической литературе и политическом дискурсе. Авторы второй группы, наоборот, считают представления российских "демократов" авторитарными и даже тоталитарными, отличающимися от советской идеологии только формой, но не сутью, словами, но не смыслом. Они видят в них зеркальное отражение советской идеологии, и, следовательно, ее продолжение в иной форме. Исследователи, принадлежащие к третьей группе, признавая, что "демократические" представления в значительной степени развились из официальной советской идеологии, полагают, что они постепенно отдаляются от этой идеологии под влиянием внешних источников и борьбы против режима. Они подходят к "демократической" системе представлений как к совокупности смешанных элементов, пришедших из разных источников, находящейся в процессе постоянных изменений. Представления российских "демократов" как демократические Несколько авторов, использующих различные теоретические подходы, признают значение исследования представлений российских "демократов" как независимого явления и уделяют ему место в своих работах. Наиболее поверхностный подход проявляется в том, что "демократическим" декларациям верят на слово и признают их демократический характер, не видя разницы между представлениями российских "демократов" и теми, что приняты в западных теориях демократии. Ограниченность подобного подхода уже обсуждалась на примере книги С. Фиша. Дж. Данлоп аналогичным образом постулирует демократизм российских "демократов" и "неформалов". Дж. Данлоп считает, что "общество, которого требовали неформалы, можно безошибочно назвать плюралистическим обществом западного типа" и что они "хотели, чтобы СССР превратился в демократию западного типа". Описывая Межрегиональную депутатскую группу, Дж. Данлоп утверждает, что она открыто выступала за "многопартийную демократию западного типа и рыночную экономику"[81]. В исследовании М. Макфола и С. Маркова политический процесс в СССР рассматривается в том же ключе - как борьба между "демократами" и "консерваторами" (последние также иногда именуются "правыми" и "реакционерами" без объяснения, что означают эти термины в российском политическом контексте)[82]. Подобные упрощенные схемы с легкостью усвоили русские авторы, как только отпала необходимость выражать преданность коммунистической теории. Советские корни "демократических" представлений В отличие от Дж. Данлопа, М. Урбан и Дж. Макклур в своем исследовании Межрегиональной депутатской группы пытаются "абстрагироваться от личностей, организаций, партийных программ и т.д. с целью нащупать нечто более "глубинное", и в этом смысле в долгосрочной перспективе более важное для формирования партий". Вслед за Ф. Джеймсоном они называют этот глубинный уровень "подсознательными ценностями или системами представлений, организующими социальную жизнь". Для анализа этого "неэмпирического уровня политической реальности" авторы изучают политические речи шести ведущих членов Межрегиональной группы на Съезде народных депутатов СССР. М. Урбан и Дж. Макклур находят важные общие шаблоны в подходах "демократов", отмечая, что по широкому кругу вопросов их высказывания "переворачивают тот набор ожиданий, который стоит за авторитетом правительства, провозглашающего намерение поддерживать перестройку". Однако авторы не поднимают вопроса о происхождении этих шаблонов или об их связи с западными теориями демократии. Репрезентативность этого исследования также спорна, поскольку рассматривается крайне ограниченное число лиц и их высказываний[83]. Д. Девлин в книге "Взлет российских демократов" пытается "проанализировать демократическое движение, его сильные и слабые стороны и его конечное воздействие". Как пишет Д. Девлин, ее книга посвящена "возникновению новых, демократически настроенных политических формирований и их вкладу в политическую культуру современной России"[84]. В отличие от тех, кто постулирует общность понимания демократии российскими "демократами" и "нормальными" западными теоретиками, Д. Девлин указывает, что демократическая коалиция была более пестрой. По мнению Д. Девлин, "ее интеллектуальные истоки лежат скорее в антисталинизме и реформаторском социализме времен "оттепели", чем в классической теории либерализма восемнадцатого и девятнадцатого веков", а демократы "возражали, скорее, не против социализма, провозглашенного режимом, а против конкретной формы правления, в которою вылился советский социализм"[85]. Эти выводы чрезвычайно важны, поскольку Д. Девлин впервые в западной литературе указывает на необходимость поиска корней российских "демократических" представлений не в западных либеральных теориях, а в доминирующей советской политической культуре и в оппозиционных субкультурах. Однако именовать общественный идеал российских "демократов" "социалистическим", как это делает Д. Девлин, может оказаться столь же необоснованно, сколь и называть его либеральным или демократическим, поскольку при этом анализ самих представлений подменяется очередной априорной политической концепцией. В настоящей работе, напротив, первоначально анализируется содержание представлений и лишь затем проводится их сравнение с другими теоретическими концепциями. Еще один недостаток анализа Д. Девлин состоит в том, что, в отличие от Фиша, который считал всех "демократов" объединенными западными демократическими идеями, она ударяется в противоположную крайность. Справедливо отмечая, что демократическое движение не было объединено либеральными политическими идеалами и теориями, она заявляет, что его вообще не объединяли никакие идеалы, и что оно, скорее, представляло собой "коалицию разнородных групп интересов и взглядов, спаянную оппозицией остаткам сталинизма"[86]. Такой вывод – явное преувеличение. Тот факт, что российское "демократическое" движение не объединял ни либерализм, ни социализм, ни какой-либо иной теоретический "изм", не означает, что его не объединяла вообще ни одна система представлений. В реальности доминирующая система представлений политической группы, особенно в эпохи больших социальных перемен, очень часто является смесью различных влияний, не взятой из какой-либо одной современной теоретической концепции[87]. В своем исследовании Д. Девлин также преувеличивает элитарность российского "демократического" движения, географически ограничивая его в основном Москвой, Ленинградом и несколькими другими крупными городами, а по социальному составу – исключительно интеллигенцией. Причина этого, возможно, в том, что большинство групп, которые она изучает, а также большая часть источников и интервьюеров происходят из этих городов и социальных групп. В этом отношении книга С. Фиша обладает явным преимуществом. Его анализ провинциальных "демократических" групп показывает, что на пике развития (1990-1991 гг.) эти группы действовали почти в каждом районном центре, а в их состав входили не только интеллигенты; активную роль играли рабочие, а иногда и только что появившиеся фермеры (эти выводы подтверждаются данными настоящего исследования). Согласно Д. Девлин, именно элитарность и отсутствие единой позитивной программы стали причиной слабости "демократического" движения, которое раскололось после своей победы в августе 1991 г., и в дальнейшем только прагматическая часть коалиции, в действительности не разделявшая демократические идеалы, осталась у власти. Позицию Д. Девлин не разделяет С.В. Чешко. В своем исследовании того, что он называет "идеологией" российских "демократов", С.В. Чешко утверждает, что именно победа этой идеологии и приход к власти ведущих "демократов" привели к новому тоталитаризму в России. Причина этого в том, что их идеология "обернулась разновидностью радикального революционного романтизма"[88]. Отмечая, что концепция демократии сама со временем меняется, С.В. Чешко пишет, что во второй половине ХХ в. демократия понимается как "определенный тип политического устройства общества, основывающийся на законодательной и контролирующей деятельности представительных органов, способ формирования которых обусловлен принципом индивидуальных гражданских прав членов общества"[89]. Согласно С.В. Чешко, такая организация основана на четырех основных принципах: 1) безусловный приоритет закона по отношению к воле любого государственного сановника и актам исполнительно-распорядительной власти; 2) вторичность решений исполнительной власти по отношению к решениям представительных органов и подотчетность первых последним; 3) разделение сфер полномочий законодательной, исполнительной и судебной властей; 4) комплексная система противовесов, которая должна препятствовать чрезмерному усилению каких-либо из структур власти[90]. Сопоставляя эту концепцию с идеалом российских "демократов", С.В. Чешко замечает, что ни политические, ни экономические, ни социальные компоненты последнего не обладают очевидными признаками "действительного демократизма", и что фундаментальные принципы демократии российским "демократам" абсолютно чужды[91]. По словам С.В. Чешко, "под демократией они понимают не столько соответствующий политический строй, сколько воплощение определенного социального идеала"[92]. С.В. Чешко делает вывод, что "наша демократия оказалась движением революционного радикализма, который, кстати, идейно гораздо ближе к большевизму, чем ортодоксальная "номенклатура" с ее консервативной, охранительной идеологией". Он утверждает, что суть политической программы "демократов" "состоит главным образом в смене идеологических символов тоталитаризма, а не в устранении тоталитаризма как такового", не в уничтожении коммунистической тоталитарной системы, а всего лишь в ее замене иным тоталитаризмом[93]. Согласно С.В. Чешко, этот вывод доказывают несколько основных черт идеологии российских "демократов". Во-первых, "их модель "демократии" – это власть политической элиты во главе с "всенародно избранным" диктатором, которая навязывает обществу собственную доктрину "прогрессивных реформ". Идея прогресса ставится выше тех политико-правовых институций, которые мешают ее осуществлению; на этом основании, например, представительные органы власти, конституционные нормы объявляются недемократическими"[94]. Среди прочих признаков радикализма и тоталитаризма "демократической" идеологии С.В. Чешко усматривает крайнюю приверженность определенной социальной доктрине и желание ее немедленного воплощения в чистом виде путем уничтожения всех препятствий, замедляющих этот процесс, таких, как традиции, инерция сознания и политические противники. Он также выделяет политическую нетерпимость к соперничающим идеям и личностям, проявившуюся в планах запрета КПСС и организации нового Нюрнбергского процесса над коммунистами; и понимание демократических процедур как средства достижения идеологических целей, а не как реально работающей политической системы, законам которой необходимо подчиняться. В своей книге С.В. Чешко развивает несколько важных идей. Как и Д. Девлин, он ищет истоки представлений российских "демократов" в современной советской идеологии и политической культуре, а не в западных демократических теориях, но утверждает, что они в своей основе схожи не с представлениями демократической социалистической оппозиции сталинскому тоталитаризму, а с идеологией самого тоталитаризма. Такое сходство действительно существует, и С.В. Чешко верно указывает на официальную идеологию как основной источник "демократических" представлений, его утверждение, что эти представления остаются по сути тоталитарными и структурно идентичны классическому большевизму - преувеличение. В своем эмоциональном анализе С.В. Чешко явно упускает из виду, что возникновение "демократической" политической субкультуры изменило не только символы официальной идеологии, но и также многие из ее структурных компонентов, хотя и сохранив некоторые из них. Кроме того, в отличие от Д. Девлин, которая не видит общего позитивного идеала, объединяющего российских "демократов", Чешко ударяется в другую крайность и говорит об этом идеале как об общеизвестном наборе идей и ценностей, разделяемом всеми, упуская разногласия между различными течениями "демократической" мысли. Система "демократических" представлений как синтез различных влияний С.С. Дзарасов также находит корни системы представлений российских "демократов" в советском "тоталитаризме". Однако он рассматривает ее не просто как новую форму тоталитарной идеологии, а как синтез русского традиционализма - который, с его точки зрения, ответственен за российский "тоталитаризм" - и западного либерализма первой половины ХIХ в. - единственной формы либерализма, с которой были знакомы "демократы". Это смешение привело к созданию особой идеологии российского "демократического" движения, которую С.С. Дзарасов называет российским анархо-либерализмом. Согласно С.С. Дзарасову, эта смесь различных идеологических течений ведет к таким логическим противоречиям, как вера в необходимость "социально ориентированного рынка" одновременно с анархическим отрицанием роли государства в экономике. С.С. Дзарасов утверждает, что ставшее одним из центральных представлений реформаторов "негативное отношение к государству сложилось у российских реформаторов под шокирующим влиянием нашего тоталитаризма"[95]. С точки зрения С.С. Дзарасова, представления российских "демократов" о путях перехода к демократии также противоречивы: "Они сводятся в основном к декларированию двух бесспорно важных ее сторон: прав человека и разделения властей. Но это делается без переноса центра тяжести на реальные условия их обеспечения. Российское представление о демократии носит ярко выраженный анархистский отпечаток. Свобода мыслится, скорее, как отказ от регулирующих функций государства, а не их демократизация. Подобное понятие надо расценивать как обратную сторону (другую крайность) нашего этатистского сознания"[96]. Согласно С.С. Дзарасову, этими антигосударственными настроениями можно объяснить многие стороны российской политики после прихода "демократов" к власти в России, особенно политики Ельцина, направленной на развал СССР. Как и С.В. Чешко, С.С. Дзарасов указывает на различия между современным западным пониманием демократии и представлениями российских "демократов". Но если С.В. Чешко говорит о прямом переносе "тоталитарных" представлений в "демократическую" идеологию под другими названиями, С.С. Дзарасов находит и вторую модель преемственности между ними: отрицание "тоталитарной" нормы ведет к принятию зеркально противоположных представлений, которые не являются ни либеральными и демократическими (как думали сами демократы), ни тоталитарными. Хотя с точки зрения российских "демократов" все зеркально противоположное существующему советскому порядку должно быть демократическим, на самом деле это было верно не всегда. В своей неопубликованной статье "Оппозиция и тоталитаризм в СССР" И.Е. Кудрявцев аналогичным образом рассматривает отношения между так называемым "тоталитарным обществом" и антитоталитарной оппозицией. По его мнению, "в известном смысле можно говорить, что оппозиция строила некоторые свои структурные черты на базе тоталитарного уклада", но эти черты переплетались с другими, позаимствованными из "плюралистического политического уклада", который должен был прийти ему на смену[97]. Таким образом, по словам И.Е. Кудрявцева, "как на организационно-структурном, так и на идейно-программном уровне, каркасом, основой, задававшей единство и архитектуру оппозиционного ("демократического") движения в СССР, была тоталитарная советская социалистическая система в единстве ее проявлений"[98]. Подобно С.В. Чешко и С.С. Дзарасову, И.Е. Кудрявцев отмечает, что влияние "тоталитарной" идеологии на оппозиционные представления проявляется в том, что последние заимствуют первую в перевернутом виде. В результате оппозиция была "зеркальным отрицанием" предыдущего тоталитарного строя. Согласно И.Е. Кудрявцеву, она "стала своеобразным "демократическим антиподом" тоталитарной системы – но вовсе не независимым от этой системы, органическим элементом новой демократической системы. Появление оппозиции обозначило выход в новое демократическое политическое пространство. Однако сама оппозиция продолжала быть ввязанной в пост-тоталитарный уклад, она не могла уйти от него, не могла стать нормальной частью нового уклада. Оппозиция оставалась жизненно связана с существованием тоталитарной структуры"[99]. С точки зрения И.Е. Кудрявцева, это было предопределено принадлежностью оппозиции к "тоталитарной" политической культуре. В результате реальная политическая культура оппозиции характеризовалась сосуществованием "стремления к разрушению конкретной тоталитарной системы на макроуровне с нерефлексируемым, существующим в себе, внутри оппозиции на уровне культурных и традиционных стандартов поведения сохранением тоталитарных отношений и репродуцированием их во вновь создаваемые структуры". И.Е. Кудрявцев подчеркивает важность изучения этой реальной политической культуры оппозиции, поскольку она "содержит в себе имплицитно также и черты того уклада, который реально воздвигается на месте старого тоталитарного общества"[100]. Согласно И.Е. Кудрявцеву, двойственный характер политической культуры оппозиции отразился на развитии общества после ее неожиданного прихода к власти. Он пишет: "Политический блицкриг оппозиции не изменил большей части отношений в обществе (и, в частности, он мало отразился на экономических отношениях), но он принес политическую многосубъектность, политический плюрализм и конкуренцию (правда, часто в нецивилизованных, чуждых западно-демократической политической культуре формах). Тем не менее именно с этим блицкригом в СССР образовались поле новой публичной массовой политики, структуры политического общества и стали возникать (какие-никакие) линии трансмиссии шевелений общества в действия властных структур".[101] Предположение И.Е. Кудрявцева о полной зависимости политической культуры оппозиции от тоталитаризма приводит его к выводу, что с исчезновением политической культуры тоталитаризма исчезнет и политическая культура оппозиции. Но его собственный анализ влияния "демократического" мышления на политику "демократической" власти после распада СССР противоречит этому предсказанию. Еще один недостаток анализа И.Е. Кудрявцева - нежелание замечать иное, нежели антитоталитарное, содержание демократических представлений. Согласно И.Е. Кудрявцеву, "демократом" будет всякий, кто отвергает существующую советскую систему. Действительно, термин "демократ" в рассматриваемый период в России имел более широкое значение, чем такие термины, как "либерал", "социал-демократ", "анархист" и т.д., и включал в себя их всех. Но в то же время существовало также много групп, которые были одновременно и антисистемными и анти-"демократическими". Следовательно, необходимо более узкое и точное определение значения понятий "демократ" и "демократический" в российском контексте. С.С. Митрохин предлагает свое понимание эволюции "демократической" системы представлений. Его анализ основан на идее определяющей роли ценностных ориентаций в политике. Согласно С.С. Митрохину, ценностные ориентации образуют систему координат, в рамках которой политическое действие "обретает институционную значимость и определенность". Конкретные индивиды или социальные группы принимают только весьма ограниченное участие в формировании этих координат; они "создаются веками в ходе глубинных исторических изменений – в тесном переплетении с судьбами религии, этики и метафизики". Конкретные доминирующие сочетания ценностных ориентиров и норм С.С. Митрохин называет "ценностными парадигмами" - понятие очень близкое концепции системы ценностей или представлений, принятой в политологии. В ценностной парадигме, пишет С.С. Митрохин, существуют два уровня ценностей: более глубокие абсолютные ценности (которые не нуждаются в отсылках к каким-либо оправдательным инстанциям) и внешние вторичные ценности, связанные с нормами поведения. Поскольку все компоненты ценностной парадигмы взаимосвязаны и образуют иерархическую структуру, за нормами стоит общая норма (метанорма), регулирующая взаимоотношения индивида с планом абсолютных ценностей и определяющая систему более конкретных норм, методов и средств достижения и осуществления этих идеальных образований. Согласно С.С. Митрохину, "при изучении той или иной ценностной парадигмы нельзя, как это принято, ограничиваться рассмотрением содержания и взаимного соотношения ценностей самих по себе: необходимо еще уяснить, как эти ценности, согласно генеральной норме данной парадигмы, приводятся в соответствие с реальной действительностью"[102]. С.С. Митрохин называет "генеральную норму" "фундаментальным проектом реализации ценностей" или "аксиологическим проектом". Его главную функцию он видит в определении и непосредственном предписании индивиду норм, а также конкретных действий и поступков, которые он должен рассматривать как средства достижения исповедуемых им абсолютных ценностей. С этой точки зрения, согласно С.С. Митрохину, структуру ценностной парадигмы можно описать как состоящую из плана ценностей и плана средств, необходимых для их реализации. С.С. Митрохин выделяет два основных исторических аксиологических проекта: "традиционный", основанный на религиозной морали, который позже, после появления идеи о свободе воли, эволюционировал в "автономный" проект; и "инструментальный", явившийся результатом беспрецедентной конкретизации и операционализации реального уровня средств и получивший классическое выражение в марксизме. В схеме С.С. Митрохина советское сознание является инструментальным аксиологическим проектом (ИАП) в чистейшем виде. Для него характерны: 1) коллективизм, выступающий как универсальный регулятор человеческого поведения; 2) наличие в сознании советской личности глубинных "пролетарских" ценностей, и менее отчетливых ценностей "трудящихся" и "советских людей"; 3) идея социальной справедливости, которая отменяет предшествующие ценности экономической независимости и частной собственности; 4) высокое положение государства в ценностной иерархии; 5) идея Демиурга, или вождя, проявившаяся в образах индивидуальных, либо коллективных личностей, таких, как "Ленин", "Сталин", "Маркс-Энгельс" и "партия". По С.С. Митрохину, все эти компоненты советского инструментального аксиологического проекта существовали, "с одной стороны, как реальные средства воплощения абсолютного блага, с другой – как идеально-ценностные образования в сознании людей"[103]. В качестве реальных средств они имели тенденцию к безграничной интенсификации и абсолютизации, поскольку должны были служить абсолютным целям. Советская действительность, считает С.С. Митрохин, дает классические примеры подобной абсолютизации: тотальный коллективизм, неограниченный произвол государства, беспредельный культ вождя, абсурдное возвеличивание советских трудящихся в противовес карикатурному "империализму", бескрайняя идеологизация и пропаганда. В то же время, отмечает С.С. Митрохин, инструментальная мораль обязана своей популярностью тому, что в ее основе лежит идея реализации традиционно-автономных ценностей. Это означает, что ее господство нельзя считать равнозначным тотальному искоренению любого намека на традиционную и автономные парадигмы, прежние ценности продолжают существовать в некоторых "оазисах", главным образом в сфере личных традиций. Такое сосуществование противоположных ценностей вызывает противоречия, которые могут привести к кризису инструментального проекта, особенно когда даже максимальное использование его возможностей нисколько не приближает идеала[104]. С точки зрения С.С. Митрохина, новые политические движения в Советском Союзе были проявлением этого процесса. Он разделяет их на "партикулярные", ставящие ограниченные экономические и политические цели, и "универсальные", "настроенные и направленные на изменение (или сохранение) общественной системы в ее тотальности, порождаемые в силу активизации базисной структуры мировоззрения, несущие в себе альтернативу существующему общественному состоянию" (последние находятся в гораздо более тесной зависимости от высших ярусов ценностной иерархии). Согласно этой классификации, российское "демократическое" движение может быть названо "универсальным". С.С. Митрохин замечает, что отказ от всей системы инструментальных ценностей не может произойти сразу. На первой стадии "традиционная оценка выходит из предписанных ей пределов компетенции и квалифицирует план средств ИАП как зла". Однако это не означает полного исчезновения инструментального проекта из сознания "прозревшего": "Сознание, как правило, не может "одним махом" пересмотреть свои аксиологические основы. Частичное ограничение плана средств, на которое оно отваживается, не идет дальше дискредитации одного из элементов этого плана – одной из ипостасей его Демиурга (личности Сталина). Иными словами, происходит не тотальная переоценка, а сравнительно легкая переакцентуализация ИАП. Тем не менее, эта переакцентуализация является первым шагом к разрушению (деструкции) всей инструментальной парадигмы, так как вовлекает ее в неисправимое противоречие, пытаясь ограничить то, что по своей идее противится всякому ограничению"[105]. С.С. Митрохин называет эту стадию "деструктивной переакцентуализацией первого порядка" и находит ее проявление в идеологии "подлинного марксизма-ленинизма", "извращенного" Сталиным. Данная идеология нашедшей свое историческое воплощение в реформах хрущевской оттепели и породила первые попытки независимой политической активности. "Деструктивная переакцентуализация второго порядка", согласно С.С. Митрохину, характеризуется более интенсивной ревизией инструментальных и более зрелой стадией реанимации автономных ценностей: характер Демиурга подвергается пересмотру вплоть до дискредитации личности Ленина и коммунистической партии; официальная концепция рабочего класса как правящего и идея универсальности приложения государственной власти отбрасываются либо существенно переосмысливаются. В то же время этот этап характеризуется широким распространением автономных ценностей, таких, как "неприкосновенность личности" и "права человека". Из-за этого мировоззрение, все еще сохраняющее свою инструментальную основу, становится чрезвычайно запутанным и эклектичным. Однако, указывает Митрохин, идеологии различных движений на этой стадии, занимающие весь спектр от "подлинного марксизма" до анархизма, можно распознать по одному общему признаку: приверженности идее "подлинного социализма", очищенного от всяческих искажений. Исторически эта стадия проявилась в идеологии перестройки[106]. Согласно С.С. Митрохину, вторая стадия является последней в переакцентуализации инструментальной парадигмы. Следующей стадией является полная переоценка ИАП и всей инструментальной парадигмы. Вторая стадия исторически проявилась в правозащитном движении брежневского периода и в либерально-демократической идеологии эпохи перестройки. Однако, предупреждает С.С. Митрохин, этот скачок ко второй стадии иногда может оказаться обманчивым: "Господство ИАП в советском сознании на протяжении многих десятилетий породило в советском человеке такие рефлексы, привычки и стереотипы, которые нелегко преодолеть одним скачком. Часть этих рудиментов ИАП перемещается в новую систему координат вместе с самим "прыгуном". В результате мы подчас становимся свидетелями такого положения, когда последовательно автономная (либеральная) система ценностей становится предлогом для реанимации ИАП с его революционными средствами. Таково происхождение радикализма в современном демократическом движении"[107]. С.С. Митрохин видит источник либерального популизма Демократической партии России и социального популизма новых социалистов, а также необольшевистского и национал-популизма некоторых антиреформаторских групп, в продолжающемся влиянии ядерных ценностных ориентаций, которые советское сознание унаследовало от инструментальной парадигмы. Согласно С.С. Митрохину, наиболее сильное из этих влияний – "дискриминационный комплекс с пафосом социальной справедливости, обретший сегодня новый объект для обличения в лице "партаппарата", "мафии", "КПСС" и т.д." Современный популизм также включает стереотип Демиурга и дух коллективизма. С.С. Митрохин заключает: "Инструментальные реликты советского сознания, порождающие стихию популизма, сами по себе иррациональны и не могут породить никакой идеологии. "Вырвать" индивида из этой стихии может только четко артикулированная идеология, привнесенная извне. Поначалу она внедряет в сознание отдельные свои положения, формирует те или иные ценностные установки. В дальнейшем возможна полная структуризация ценностного сознания и переход индивида из лагеря популизма в один из идеологически "устойчивых" отрядов, т.е. продолжение и углубление ценностного раскола советского общества"[108]. Модель С.С. Митрохина, слишком обобщенная и крайне спорная в своих глобальных исторических аспектах, тем не менее весьма полезна для анализа соотношения между конкретными современными советскими системами представлений и преемственности между ними. Подобно Д. Девлин и С.В. Чешко, С.С. Митрохин указывает на официальную советскую идеологию как на источник современной "демократической" субкультуры, но, в отличие от С.В. Чешко, понимает последнюю не просто как возрождение первой в других символических формах, а отмечает как элементы преемственности, так и элементы новизны. Вполне естественно, что официальная идеология, которая была основой теоретических представлений большинства образованных людей в СССР, не могла исчезнуть в одночасье и наложила глубокий отпечаток на все последующие системы представлений. Также естественно, что отрицание этой идеологии - процесс, начинающийся с отказа от ее наиболее очевидных и поверхностных уровней, и что еще долгое время за формально весьма антисоветскими символами и лозунгами можно было обнаружить структуры представлений, характерные для советской идеологии. Важно, что С.С. Митрохин указывает на два основных источника этого отрицания: неофициальные представления, выжившие при социализме, и внешние влияния. Однако вовсе не очевидно, что этот процесс отрицания должен идти обязательно до своего логического конца и что все системы представлений бывшего Советского Союза станут на каком-то этапе либо "автономными", либо "инструментальными". В сущности, такого логического конца может вообще не быть, и постулат о его существовании, основанный на упрощенном разделении всех исторических мировых систем представлений и идеологий на два типа, скорее всего, сам является реликтом советского образа мысли. Так же сомнительна и идея Митрохина о том, что окончательная стабильная система представлений придет извне, а не образуется в результате смешения различных внешних, советских и более ранних российских влияний. Еще один недостаток подхода С.С. Митрохина в том, что он не рассматривает "демократическое" движение как целое, а разделяет его на либерально-демократические, радикальные, популистские и прочие группы. Все эти и многие другие течения действительно существовали в нем. Такое разнообразие частично объясняется тем, что описанные С.С. Митрохиным стадии отрицания официальной идеологии являются логическими, а не историческими. На самом же деле некоторые из тех лиц, которые, согласно данной схеме, находились на различных стадиях, могли оказаться в одном и том же движении и даже в одной группе. Сам этот факт свидетельствует о том, что, кроме представлений, разделявших российских "демократов", были и представления, объединявшие их. Исследование последних, возможно, даже важнее, если российская "демократическая" субкультура рассматривается как единая система представлений, оказавшая влияние на политические процессы в СССР и России. Фактически этот последний пункт подтверждается в другой работе, которую С.С. Митрохин написал вместе с М. Урбаном. С. С. Митрохин и М. Урбан сравнивают программы двух основных "демократических" партий: Демократической партии России (ДПР) и Социал-демократической партии России (СДПР). Находя некоторые несущественные различия в программах, составе и политическом стиле обеих партий, они замечают, что "судя по формальной ориентации двух этих партий, выраженной в программах и речах их лидеров, они почти ничем не отличаются друг от друга. Они обе считают себя "нормальными", "парламентскими" партиями, ориентированными на создание рыночной экономики, рационального правового государства и демократического политического порядка. Более того, обе они стараются организовать и представлять один и тот же слой избирателей, а именно тех, кого они именуют нарождающимся "средним классом", состоящим главным образом из специалистов, бизнесменов (директоров в государственном секторе, предпринимателей в кооперативном и частном секторах) и квалифицированных рабочих"[109]. На основе результатов исследования, проведенного в апреле 1991 г. среди активистов ДПР и СДПР, С.С. Митрохин и М. Урбан указывают, что с допущением программных маневров не будет ошибкой считать ориентации ДПР и СДПР в области социальной и экономической политики неразличимыми"[110]. Согласно С.С. Митрохину и М. Урбану, такое сходство программ, характерное для всех российских партий демократической ориентации, является результатом того, что среди их целей преобладает "стремление к искоренению коммунистического порядка", так как пока этот порядок существует, их общие планы по превращению в "нормальные", "парламентские" партии не могут быть реализованы. С.С. Митрохин и М. Урбан отмечают: "На уровне политической организации это единство целей партий воплотилось в "Демократической России", союзе практически всех демократических партий, групп и сил, сформированном в октябре 1990 г. с явной целью уничтожения коммунистической системы и замены ее демократической. На уровне политического дискурса в демократическом движении происходит нечто похожее, и, судя по результатам нашего исследования, по крайней мере в некоторых демократических партиях высказывания о демократии, описывающие будущее, либо скрывали выражение четких социальных интересов, либо преподносили их в одной и той же неотличимой упаковке."[111] Хотя уровень единства "демократических" партий и групп здесь преувеличен (далеко не все они входили в "Демократическую Россию"), а причина сходства их программ чрезмерно упрощена, С.С. Митрохин и М. Урбан справедливо обращают внимание на это единство и на то, что между ним и социальными интересами существовала прямая связь. Отсюда вытекает необходимость изучать эти программы с точки зрения внутренней логики развития представлений, которые они отражают, а не как простую производную от социального положения членов "демократических" партий[112]. В исследованиях Д. Девлин, С.В. Чешко и С.С. Митрохина содержатся ценные мысли о характере процесса формирования новой "демократической" системы представлений и ее связи с советскими и зарубежными теориями и концепциями. Однако выводы этих исследователей зачастую слишком абстрактны, основываются на общих принципах и почти не рассматривают высказывания самих "демократов". В противоположность их работам, другое исследование российских "демократических" групп, проведенное в Москве в 1991-1992 гг. российскими и французскими социологами, позволяет самим "демократам" заговорить. Этот проект основан на методологии известного французского социолога А. Турэна, разработавшего метод исследования социальных движений путем так называемой "социологической интервенции"[113]. Турэн, в отличие от Фиша, обращает значительное внимание на то, что он называет "идеологией" социальных движений. Он строит свои выводы на данных серии групповых интервью, цель которых - "интенсивное изучение группы активистов, которые осуществляют самоанализ своих действий, причем исследователи как можно чаще задают им вопросы по всему содержанию их заявлений и по их поведению во время интервенции"[114]. Группа, состоящая из 12-14 человек, проводит дискуссии со специально приглашенными "оппонентами", которые настроены либо сочувственно, либо враждебно, и представляют различные мнения и различные социальные группы. Обычно проводится несколько сессий в разных регионах, по крайней мере по две сессии с одной и той же группой с определенным временным интервалом. Это необходимо для соблюдения географической репрезентативности и понимания идей в процессе эволюции. Эта методология опробована на практике: А. Турэн использовал ее ранее для изучения различных социальных движений, включая польское движение "Солидарность"[115]. Часть исследований новых социальных движений в России, посвященная российскому "демократическому" движению, которые группа А. Турэна предприняла в сотрудничестве с коллективом российских социологов под руководством Л. Гордона и Э.Клопова, особенно важна для данной работы, так как является практически единственным анализом представлений российских "демократов", основанным исключительно на их собственных высказываниях. Результаты работы франко-российской группы, которая, кроме "демократов", изучала "новых предпринимателей", экологические и рабочие движения, были опубликованы на русском языке в 1993 г. под заголовком "Новые социальные движения в России". Часть книги, посвященная "демократам", содержит статьи Э. Клопова, В. Кабалиной, А. Береловича и Г. Монусовой[116]. Они были написаны на основе стенограмм серии дискуссий, проведенных в декабре 1991 и январе 1992 гг., в которых приняли участие 14 активистов "Демократической России" из Москвы и Московской области и оппоненты из других организаций. Исправленный и дополненный вариант статьи А. Береловича (в которую включены данные некоторых интервью, проведенных с теми же самыми респондентами в 1993 г. и позже) был опубликован в 1996 г. на французском языке[117]. Франко-российские исследования выявили несколько важных характеристик политических представлений российского "демократического" движения. Они подтверждают мнение, что "демократическое" движение объединяли не только чисто политические цели, но также фундаментальные социальные и моральные представления, а главным образом, всего "только одна идея" – ненависти к тоталитарному режиму -- и "сверхзадача" его уничтожения. В процессе достижения этой сверхзадачи чисто политико-организационные задачи рассматривались как вторичные. Клопов отмечает, что из-за подхода к российскому "демократическому" движению как политическому по преимуществу и недооценки его социальных и моральных целей в большинстве предыдущих исследований основное внимание обращалось "на проблемы участия движения и сформированных на его базе организационно-политических структур в государственно-политическом "обустройстве" российского общества, в организации новой системы управления общественными делами и, конечно же, на то, что происходит в политизированных "верхах" движения". Поэтому авторы этих исследований, размышляя о прошлом, настоящем и будущем "демократического" движения в России, больше всего внимания уделяли его неудачам и слабостям, а также ошибкам и просчетам его вождей, но не его сильному социальному и моральному потенциалу и способности влиять на общий характер реформ в пост-тоталитарной России. Такой подход вводил в заблуждение, так как "политическая составляющая демократического движения была – и, может быть, остается – вторичной по отношению к его "сверхзадаче", определяющей приоритет целей и задач социального переустройства общества"[118]. Все авторы статей, опубликованных на основе результатов франко-российского исследования, подчеркивают, что одной из основных идей, объединявших "демократическое" движение, было абсолютное отрицание существующей системы, основанное на ее понимании не просто как политически ущербной, но и как неестественной и аморальной. Согласно Клопову, членов "демократического" движения, участвовавших в дискуссии, объединяла "одна, но пламенная страсть": "Все они ощутили настоятельную, жгучую потребность радикально избавиться от политико-идеологического диктата КПСС, от безнравственного и безответственного аппарата власти и управления страной. Именно это органическое и искреннее единство тысяч активистов и многомиллионной "базы" движения позволило сконцентрировать его энергию, направить ее на достижение главной цели – уничтожение тоталитарного режима"[119]. В.Кабалина делает вывод, что сами "демократы" видели себя представителями интересов всего неструктурированного общества, спаянного общей целью разрушения тоталитарного государства, воплощенного в КПСС[120]. Берелович полагает, что "демократов" объединяло желание покончить с "монстром", поскольку они считали, что "так жить было больше невозможно"[121]. А. Берелович и М. Вивьорка называют отношение "демократов" к КПСС "ненавистью"[122]. Авторы исследования обнаружили, что "демократы" видели своей целью замену ненормального, неестественного и безнравственного тоталитарного общества демократией, которую они считали нормальной, естественной и нравственной. Конкретная программа создания демократического общества не была ими тщательно продумана, так как они считали, что одно лишь разрушение неестественного тоталитаризма создаст условия для развития естественной демократии[123]. Авторы также обращают внимание на моральное и идеалистическое понимание "демократами" своей миссии и "демократического" общества, которое они зачастую определяют просто как общество, где все будут жить "хорошо", "нравственно"[124]. По наблюдению Клопова, "идея нравственного очищения общества, его духовного возрождения составляла одно из слагаемых той суммы идей, которую с известной натяжкой можно было бы считать программой демократического движения"[125]. Наконец, на основании слов самих "демократов" авторы приходят к выводу, подтверждающему некоторые результаты более абстрактных работ. Они обнаружили тенденцию к одобрению авторитарных методов, которые, согласно некоторым респондентам, более эффективны для скорейшего свержения тоталитаризма, проведения реформ и построения демократии. Некоторые респонденты не один раз упоминали в положительном ключе генерала Пиночета, который был популярен у активистов этого рода; кто-то даже называл его "лучшим демократом мира"[126]. В то же время другие "демократы" резко возражали против авторитарных методов, считая их вредными, ведущими к диктатуре и морально неоправданными[127]. Этот вывод особенно важен для лучшего понимания последующих расколов в "демократическом" движении и некоторых политических шагов новых российских "демократических" лидеров. В то же время авторы франко-российского исследования не сумели дать подробной и глубокой картины "демократических" представлений как системы. Авторы утверждают, что, помимо ненависти к существующему государству, "демократов" "объединял слабо и очень схематично очерченный проект западного либерально-демократического общества, в котором оказались совсем не проработанными идеи национального и культурного возрождения России как самостоятельного государства"[128]. Кроме того, по их мнению, "демократы" не имели представления о том, как достичь собственных идеалов – соблюдения прав человека, создания гражданского общества, правового государства и рыночной экономики[129]. Если подходить к позитивным целям "демократического" движения так, как делают авторы франко-российского исследования, т. е. путем сопоставления их только с типичными программами западных политических партий, то такие выводы, безусловно, верны. В самом деле, в сравнении с тщательно проработанными программами современных партий в государствах с устоявшейся демократией, представления российских "демократов" о достижении демократии, соблюдении прав личности, верховенстве закона и о создании многопартийной системы и рыночной экономики выглядят нечеткими и непоследовательными. Более того, среди самих российских "демократов" существовали разные подходы к этим проблемам. Авторы правы, отмечая, что сложная программа не может обеспечить единства широкому движению, которое с большей готовностью объединяется вокруг лозунгов-символов[130]. Согласно В. Кабалиной, подчеркивающей символический характер этих новых понятий, сам термин "демократия" стал символом борьбы с тоталитарной системой, разрыва с тоталитарным прошлым. В. Кабалина замечает, что символическое понимание демократии "демократами" дало возможность объединить в одно "демократическое" движение людей с различными теоретическими взглядами на демократию как на цель. С точки зрения В. Кабалиной, символическое сознание в основном характерно для переходного периода. Она отмечает, что прошлое воспринимается и отторгается "демократическими" активистами в символах, и что в ходе групповых сессий они неоднократно своеобразно реагировали на понятия, символизирующие прошлое: "социализм", "коммунизм", "партия". Соответственно, будущее первоначально конструируется в идеалах -символах: "В таком символически-лозунговом виде новые идеи доходят до широких масс и обретают мобилизующую силу"[131]. Все это, однако, не означает, что "демократические" символы, будь то негативные или позитивные, даже те, что отличаются от символов, распространенных среди западных сторонников демократии, не могут входить в состав относительно последовательной системы значений и интерпретаций, которая позволила отдельным "демократам" чувствовать себя частью одного движения, стремящегося к достижению общих целей. В настоящем исследовании подробно анализируется именно эта система представлений. Еще один недостаток франко-русского исследования, связанный с предыдущим, состоит в том, что "демократические" представления не исследуются в широком историческом и интеллектуальном контексте. Не анализируется соотношение "демократической" системы представлений с официальной советской идеологией, западными "демократическими" теориями, более ранними российскими системами представлений, или с советской доминирующей политической культурой в целом. Соответственно не затрагивается и вопрос культурной преемственности и новизны в "демократической" политической субкультуре. Лишь однажды А. Берелович замечает особую модель зарождения "демократических" символов: "После крушения системы "марксистско-ленинских" терминов советской идеологии предстоит заново изобретать все понятия и даже словарь. Следовательно, формулировки, концепции, идеи, появляющиеся в прессе, способны навязать себя с удивительной быстротой и стать выражениями, обязательными для всех журналистов, политиков, социологов, политологов и т.д. Так, мы присутствовали при появлении чилийской (положительная нагрузка) модели (естественно, Чили при Пиночете), протестантской этики Вебера (отсутствие которой в России лежит в основе всех переживаемых ею сегодня трудностей), гражданского общества, правового государства и т.д. "Люмпен" стоит в ряду этих формул, необычайно пришедшихся по вкусу. Несомненно, в этом случае замечательно то, что формулировка происходит из отвергнутого марксизма. Но одной из характерных черт идеологической ситуации в России сегодня является то, что, совершенно отбрасывая на уровне сознательного марксизм-ленинизм, российские интеллектуалы невольно сохраняют его осколки (партии, как выражение классовых интересов, люмпен)"[132]. На примере термина "люмпен" А. Берелович показывает характерную схему создания новых значений термина в "демократической" системе представлений. Сам по себе термин может быть позаимствован из внешней социальной теории или из официального марксизма, но его смысл меняется и приобретает сходство с другой категорией официального марксизма. Хотя название понятия сохраняется, само оно получает новый смысл. Так, слово "люмпен" становится названием для всех "опасных" или реакционных (с точки зрения "демократии") классов[133]. Однако анализа единичного примера явно недостаточно для обоснования интересного вывода о прямой связи между "демократической" системой представлений и официальной советской идеологией. Настоящее исследование восполняет этот пробел, проводя детальный анализ этой связи, а также соотношения между "демократическими" представлениями и другими идеологиями и системами представлений. В нем также рассматривается еще один вопрос, не затронутый во франко-российском исследовании: о влиянии "демократической" субкультуры на российскую политическую культуру в целом и на дальнейшее политическое развитие страны. 2.3. ВыводыОценивая в целом существующую литературу о представлениях российских "демократов", можно сказать, что первые две группы авторов: те, кто видят в этих представлениях точную копию либо западной демократической, либо советской тоталитарной идеологии, чрезмерно упрощают ситуацию. Авторы, принадлежащие к первой группе, смотрят лишь на поверхность, оценивая язык "российских" демократов по формальному значению произносимых ими слов и не замечая значительных различий между пониманием демократии российскими "демократами" и ее трактовкой, принятой у большинства теоретиков демократии и политиков на Западе. Авторы второй группы, справедливо указывая на некоторые структурные аналогии между официальной советской идеологией и "демократической" системой представлений и на значительное влияние первой на вторую, склонны абсолютизировать это влияние и не замечают не менее значительные различия, вызванные заимствованием представлений из других источников и взаимодействием с системами, существовавшими ранее. Настоящее исследование в качестве отправной точки использует выводы третьей группы авторов, которые рассматривают новую систему представлений российских "демократов" как результат синтеза различных влияний, находящегося в процессе постоянного формирования и развития. Недостатком этих авторов, является то, что ни один из них не представил полноценного монографического исследования данной темы. Практически все они формулируют свои выводы в краткой и несистематической форме, не показывая политическую культуру российских "демократов" как относительно последовательную систему представлений, но нередко приводя ценные, хотя и в основном фрагментарные, замечания о ней. Не предпринималось попыток ни подвергнуть систематическому анализу соотношение между различными источниками "демократической" политической культуры и различными оказанными на нее влияниями, ни определить, какой из этих источников явился ее основой, ни раскрыть точное содержание этих влияний, ни реконструировать механизм заимствования новых представлений и их переосмысления в рамках структуры существующей системы представлений, ни сопоставить систему представлений российских "демократов" с существующими теориями демократии и советского общества, более ранними советскими и российскими представлениями и советской политической культурой в целом, ни изучить влияние политической субкультуры российских "демократов" на российскую политику. Все эти вопросы рассматриваются в настоящем исследовании. [1] Archie Brown, ‘Ideology and Political Culture’, in Seweryn Bialer (ed.), Politics, Society, and Nationality inside Gorbachev’s Russia (Boulder, Colo. And London: Westview, 1989), p.18-19. [2] По-английски используется греческое заимствование: "Autocrat", т. е. "Автократ". [3] Zbigniew Brzezinski, ‘Soviet Politics: From the Future to the Past’, in Paul Cocks, Robert V.Daniels, and Nancy Whittier Heer (eds.), The Dynamics of Soviet Politics (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976), p.69-70. [4] Stephen White, Political Culture and Soviet Politics (London: Macmillan, 1979), p.168. [5] Marc Raeff, ‘The People, the Intelligentsia and Political Culture’, Political Studies, 41 (1993), p.106 and 100. [6] Nicolai N.Petro, The Rebirth of Russian Democracy: An Interpretation of Political Culture (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995), p.3. [7] Ibid. [8] Лепешкин Ю.В. Что главное в политической культуре? // Политология на российском фоне. М.: Луч. 1993. С.260-261. [9] Там же. С.261. [10] Бердяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. М.: Правда. 1991. С.251. [11] Открытое письмо редактору "Нью-Йорк Таймс" // Социалистический вестник. 1951. №6-7. Цит. по: Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // Вопросы истории. 1994. №4. С.152. [12] Petro, The Rebirth of Russian Democracy, p.15. Некоторые другие авторы поддерживают эту точку зрения. См. Mary McAuley, ‘Political Culture and Communist Politics: One Step Forward, Two Steps Back’, in Archie Brown (ed.), Political Culture and Communist Studies (London: Macmillan, 1984), p.17; Alexander Dallin, ‘Uses and Abuses of Russian History’, in Frederic J.Fleron, and Eric P.Hoffman (eds.), Post-Communist Studies and Political Science: Methodology and Empirical Theory in Sovietology (Boulder, Colo.: Westview, 1993). [13] Edward Keenan, ‘Muscovite Political Folkways’, Russian Review, 45:2 (1986), p.115-181. [14] См.: Tibor Szamuely, The Russian Tradition (London: Secker & Warburg, 1974); Richard Pipes, Russia under the Old Regime (New York: Scribner, 1974). [15] См., напр.: Brzezinski, ‘Soviet Politics: From the Future to the Past’; Frederick C.Barghoorn and Thomas F.Remington, Politics in the USSR (Boston: Litle, Brown and Co., 1986), особ. chs. 1 and 2; Gerhard Simon, ‘Political Culture in Russia’, Aussenpolitic, 3 (1995), p.242-253. [16] Даллин приводит в пример Р. Пайпса, Э. Роуни и У. Одома, служивших в администрации Рейгана (Dallin, ‘Uses and Abuses of Russian History’, p.132 and 140). Еще один пример – З. Бзежинский, хотя он работал в администрации Дж.Картера. [17] О влиянии политики на советологию см, напр.: Alfred G.Meyer, ‘Politics and Methodology in Soviet Studies’, in Fleron and Hoffman (eds.), Post-Communist Studies and Political Science. [18] Robert C.Tucker, ‘Sovietology and Russian History’, Post-Soviet Affairs, 8:3 (1992), p.175-196. [19] Bertrand Badie, Culture et politique, 3rd edn. (Paris: Economica, 1993), p.12. [20] См. Aleksandr I.Solzhenitsyn, ‘The Mortal Danger’, in Erik P.Hoffman and Robbin F.Laird (eds.), The Soviet Polity in the Modern Era (New York: Aldine, 1984). [21] Ульянов Н.И. Комплекс Филофея. С.161. [22] Tucker, ‘Sovietology and Russian History’, p.193. [23] См.: Alex Inkeles and Daniel J.Levinson, ‘National Character: The Study of Modal Personality and Sociocultural Systems’, in Gardner Lindzey and Elliot Aronson (eds.), The Handbook of Social Psychology, 2nd edn., iv (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1969). [24] Alex Inkeles and Raymond A.Bauer, The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1959), p.4. [25] См., напр.: James R.Millar (ed.), Politics, Work and Daily Life in the USSR: A Survey of Former Soviet Citizens (Cambridge: Cambridge University Press, 1987); Wayne DiFranceisco and Zvi Gitelman ‘Soviet Political Culture and "Covert Participation"’ in Policy Implementation’, American Political Science Review, 78 (1984), p.603-621. [26] Gabriel A.Almond and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963). [27] Brown, ‘Introduction’, p.11. См. тж.: Archie Brown, Soviet Politics and Political Science (London: Macmillan, 1974), p.96-100. [28] Petro, The Rebirth of Russian Democracy, p.15. [29] Как заметил А. Браун в рецензии на книгу Н. Петро. См.: American Political Science Review, 90 (1996), p. 680-681. [30] Brown, ‘Ideology and Political Culture’, p.20. [31] Ibid. [32] White, Political Culture and Soviet Politics, p.87-89. [33] DiFranceisco and Gitelman ‘Soviet Political Culture and "Covert Participation" in Policy Implementation’, p. 603 and 605. [34] Jeffrey W.Hahn, ‘Continuity and Change in Russian Political Culture’, British Journal of Political Science, 21 (1991), p.393-421; James L.Gibson, Raymond M.Duch, and Kent L.Tedin, ‘Democratic Values and the Transformation of the Soviet Union’, Journal of Politics, 54 (1992), p.329-371; William M.Reisinger, Arthur H.Miller, Vicki L.Hesli, and Kristen Hill Maher, ‘Political Values in Russia, Ukraine and Lithuania: Sources and Implications for Democracy’, British Journal of Political Science, 24 (1994), p.183-223; Arthur H.Miller, Vicki L.Hesli, and William M.Reisinger, ‘Reassessing Mass Support for Political and Economic Change in the Former USSR’, American Political Science Review, 88 (1994), p.399. [35] William M.Reisinger, ‘Conclusions: Mass Public Opinion and the Study of Post-Soviet Societies’, in Arthur H.Miller, William M.Reisinger, and Vicki L.Hesli (eds.), Public Opinion and Regime Change: The New Politics of Post-Soviet Societies (Boulder, Colo.: Westview, 1993), p.274. [36] James L.Gibson and Raymond M.Duch, ‘Emerging Democratic Values in Soviet Political Culture’, in Miller, Reisinger, and Hesli (eds.), Public Opinion and Regime Change, p.89-90. [37] Arthur H.Miller, Vicki L.Hesli, and William M.Reisinger, ‘Comparing Citizen and Elite Belief Systems in Post-Soviet Russia and Ukraine’, Public Opinion Quarterly, 59 (1995), p.33. [38] В числе примеров такой тенденции - cтатья Г. Симона, которая рассматривает российскую политическую культуру как абсолютно изолированную от любого "западного" влияния и "авторитарную" по своей сути и повторяет большинство аргументов украинских националистов начала века, а также книга бывшего московского корреспондента "Таймс" Б. Кларка, который интерпретирует практически все политические события ельцинского периода как признаки возврата "имперского духа". См.: Gerhard Simon, ‘Political Culture in Russia’; Bruce Clark, An Empire’s New Clothes: The End of Russia’s Liberal Dream (London: Vintage, 1995). [39] Alexander Dallin, ‘Where Have All Flowers Gone?’, in Gail W.Lapidus (ed.), The New Russia: Troubled Transformation (Boulder, Colo.: Westview, 1995), p.259. [40] Frederic J.Fleron, Jr., ‘Political Culture in Russia’, Europe-Asia Studies, 48 (1996), p.251; Michael McFaul, ‘The Perils of a Protracted Transition’, Journal of Democracy, 10:2 (1999), p.16. [41] Пивоваров Ю.С. Политическая культура пореформенной России, М.: Российская Академия Наук, Институт научной информации по общественным наукам, 1994. С.97-98. Сам Ю.С. Пивоваров следует традиционной методологии произвольного отбора источников; кроме того, его книга, как и книга Р. Такера, больше внимания уделяет анализу политических и юридических доктрин, чем представлений социальных групп или населения в целом. [42] Dallin, ‘Where Have All the Flowers Gone?’, p.259. [43] См.: Справочник по неформальным общественным организациям и прессе, Информационный бюллетень СМОТ №5. М., 1988 и №16. М., 1989; Неформальная Россия. О неформальных политизированных движениях и группах в РСФСР (опыт справочника), под ред. Березовского В.Н. и Кротова Н.И., М.: Молодая гвардия, 1990; Неформалы: кто они? Куда зовут?, М., Политическая литература. 1990; Россия сегодня. Политический портрет, 1985-1990, под ред. Коваля Н.И., М.: Международные отношения. 1991; Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы. Справочник, М.: РАУ-Пресс. 1991-92, в 10 тт.; Малая энциклопедия российской политики. Основные партии и движения, зарегистрированные министерством юстиции, под ред. Савельева В. М.: Верховный Совет Российской Федерации, Парламентский Центр, 1992; Прибыловский В. Словарь оппозиции: новые политические партии и организации России. PostFactum Analytical Review. No.4-5. М.: ПостФактум, 1991. [44] См.: Vladimir Pribylovskii, Dictionary of Political Parties and Organizations in Russia (Moscow: PostFactum/Integral; Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 1992); M.A.Babkina, New Parties and Movements in the Soviet Union (Commack, NY: Nova Science Publishers, 1991); Michael McFaul and Sergei Markov, The Troubled Birth of Russian Democracy: Parties, Personalities, Programs (Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1993). [45] См. статьи Дж. Хоскинга, Дж. Эйвса и П. Дункана в G.Hosking, J.Aves, and P.Duncan (eds.), The Road to Post-Communism: Independent Political Movements in the Soviet Union, 1985-1991 (London: Pinter, 1992); Щеркин А. Процессы зарождения, развития и становления политических партий и массовых общественных движений в Псковской области в 1988-1994, рукопись. Псков, 1994]; Виноградов П. Похождения атомарных личностей на закате // Красноярский комсомолец, 6 и 8 апр. 1993. [46] Напр., Geoffrey Hosking, ‘The Beginnings of Independent Political Activity’, in Hosking, Aves, and Duncan (eds.), The Road to Post-Communism, p.1-28. [47] Ibid. p.18. [48] Peter J.S.Duncan, ‘The Rebirth of Politics in Russia’, in Hosking, Aves, and Duncan, (eds.), The Road to Post-Communism, p.108-109. [49] Richard Sakwa, Russian Politics and Society (London: Routledge, 1993), p.165. [50] Ibid. p.166-168. [51] Hosking, ‘The Beginnings of Independent Political Activity’, p.24-28. [52] См.: Jonathan Aves, ‘The Evolution of Independent Political Movements after 1988’, in Hosking, Aves, and Duncan (eds.), The Road to Post-Communism; Peter Duncan, ‘The Rebirth of Politics in Russia’, and Graeme Gill, ‘The Emergence of Competitive Politics’, in Stephen White, Graeme Gill, and Darrell Slider (eds.), The Politics of Transition: Shaping a Post-Soviet Future (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). [53] Richard Sakwa, ‘Christian Democracy in Russia’, Religion, State and Society, 20:2 (1992), p.135-200; сокращенный русский перевод: Саква Р. Христианская демократия в России // Социологические исследования. 1993. №4. С.126-134, №7. С.122-131. [54] Румянцев О.Г. О самодеятельном движении общественных инициатив (неформальные объединения и их роль в перестройке общественной жизни в СССР). М.: Академия наук СССР, Институт экономики мировой социалистической системы. 1988. [55] Березовский В.Н. и Кротов Н.И. «Неформалы» - кто они? В кн. Неформальная Россия. [56] Румянцев О.Г. О самодеятельном движении общественных инициатив, с.45-46. [57] См., напр.: Громов А.В. и Кузин О.С. Неформалы: кто есть кто? М.: Мысль. 1990. [58] Румянцев. О.Г. О самодеятельном движении общественных инициатив. С.8. [59] Цит. по: Березовский В.Н., Кротов Н.И. и Червяков В.В. Новые общественно-политические организации и движения РСФСР (опыт анализа и классификации) в кн. Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы. Т.1. Ч.1. С.10-11. [60] См.: Румянцев О. Г. О самодеятельном движении общественных инициатив; Березовский В. и Кротов Н. «Неформалы» - кто они?; Коваль Б.И. От редактора // Россия сегодня (под ред. Б.И.Коваля). С.13-15; Березовский В.Н., Кротов Н.И. и Червяков В.В. Новые общественно-политические организации и движения РСФСР; McFaul and Markov, The Troubled Birth of Russian Democracy. [61] Коваль Б.И. От редактора. С.25. [62] Березовский В.Н. и Кротов Н. И. «Неформалы» - кто они? С.60-62. [63] Гилберт Дж. Н., Малкей М.. Открывая ящик Пандоры. Социологический анализ высказываний ученых. М.: Прогресс. 1987. С.12. [64] Terry Cox, ‘Democratization and the Growth of Pressure Groups in Soviet and Post-Soviet Politics’, in Jeremy J.Richardson (ed.), Pressure Groups (Oxford: Oxford University Press, 1993), p.83. [65] Ibid. p.84-85. [66] О значении исследования идеологии "политических движений" см., напр.: Anthony Obershall, Social Movements: Ideologies, Interests, and Identities (New Brunswick, NJ: Transaction, 1993). [67] Jim Butterfield and Marcia Weigle, ‘Unofficial Social Groups and Regime Response in the Soviet Union’, in Judith B.Sedeitis and Jim Butterfield (eds.), Perestroyka from Below: Social Movements in the Soviet Union (Boulder, Colo.: Westview, 1991), p.175-195. [68] M.Steven Fish, Democracy from Scratch: Opposition and Regime in the New Russian Revolution (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995). [69] Ibid. p.27. [70] Ibid. p.25,27. [71] Ibid. p.26. [72] Ibid. [73] Ibid. p.200 [74] Ibid. p.28. [75] Ibid. p.86. [76] Ibid. p.77. [77] Ibid. p.94. [78] Ibid. p.215. [79] Graeme Gill, ‘The Emergence of Competitive Politics’, in Stephen White, Graeme Gill, and Darrell Slider (eds.), The Politics of Transition: Shaping a Post-Soviet Future (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). [80] Gill, ‘The Emergence of Competitive Politics’, p.159. [81] John B.Dunlop, The Rise and the Fall of the Soviet Empire (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), p. 75, 77, 83. [82] Michael McFaul and Sergei Markov, The Troubled Birth of Russian Democracy: Parties, Personalities, Programs (Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1993). [83] Michael E.Urban and John McClure, ‘Discourse, Ideology and Party Formation on the Democratic Left in the USSR’, in Michael E.Urban (ed.), Ideology and System Change in the USSR and East Europe (New York: St.Martin’s Press, 1992), p.93, 100. [84] Judith Devlin, The Rise of the Russian Democrats: The Causes and Cobsequences of the Elite Revolution (Aldershot: Edward Elgar, 1995), p.9. [85] Ibid. p.225, 227. [86] Ibid. p.255. [87] См.: Лотман Ю.М. и Успенский Б.А. Отзвуки концепции "Москва-Третий Рим" в идеологии Петра I С. 60-74; Семевский В.И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб.: Типография Первой СПб. трудовой артели. 1909; Богучарский В.Я. Активное народничество семидесятых годов. М.: Издательство М. и С.Сабашниковых. 1912. [88] С.В.Чешко. Идеология распада, М.: Координационно-методологический центр прикладной этнографии Института этнологии и антропологии РАН. 1993. С.89. [89] Там же. С. 71. [90] Там же. С. 72. [91] Там же. С. 89. [92] Там же. С. 74. [93] Там же. С. 80, 81, 89. [94] Там же. С. 73. [95] Дзарасов С.С. Российский путь: либерализм или социал-демократизм. М.: Российский государственный гуманитарный университет. 1994. С.114. [96] Там же. С.113-114. [97] И.Кудрявцев. Оппозиция и тоталитаризм в СССР, рукопись [М., 1992], с.24. [98] Там же. С. 34. [99] Там же. С. 37. [100] Там же. С. 46-47. [101] Там же. С. 58. [102] Митрохин С.С. Аксиологические корни общественных движений в СССР // Социология общественных движений: концептуальные модели исследования, 1989-1990, под ред. Алексеева А.Н., Здравомысловой Е.А.и Костюшева В.В., М.: Институт социологии РАН. 1992. С.73. [103] Там же. С. 91. [104] Там же. С. 92-93. [105] Там же. С. 94. [106] Там же. С. 95. [107] Там же. С. 96. [108] Там же. С. 99. [109] Sergei Mitrokhin and Michael Urban, ‘Social Groups, Party Elites and Russia’s New Democrats’, in David Lane (ed.), Russia in Flux: The Political and Social Consequences of Reform (Aldershot: Edward Elgar, 1992), p.63. [110] Ibid. p.64. [111] Ibid. p.72. [112] К сожалению, статья С.С. Митрохина и М. Урбана содержит несколько фактических ошибок. Например, описывая различия в программах ДПР и СДПР, авторы утверждают, что ДПР "со своей позиции призывает к… фактическому восстановлению дореволюционной административной системы губерний с местными префектами, назначаемыми российским президентом, как прежде это делал царь", и что СДПР "больше внимания, чем ДПР, уделяет обеспечению социальной защиты для экономически обездоленных во время перехода к рыночной экономике" (С. 63-64). В действительности ДПР резко критиковала президентский указ о назначении губернаторов и призывала к их выборам, и делала более сильный упор на социальную защиту, чем СДПР. Это можно увидеть в программах и документах обеих партий и в политической позиции ДПР, более близкой к коммунистической оппозиции. (Россия сегодня. Политический портрет, 1985-1990, под ред. Коваля Н.И. М.: Международные отношения. 1991. С. 122-127, 191-204). [113] Alain Touraine, The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); Alain Touraine, La Méthode de l’Intervention Sociologique (Paris: Textes, 1993). [114] Touraine, The Voice and the Eye, p.159. [115] Alain Touraine, Solidarity. The Analysis of a Social Movement: Poland 1980-1981 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). [116] Клопов Э. Сила и слабости движения - взгляд через призму самоанализа его участников; Кабалина В. От имени кого, против кого, во имя каких ценностей. Политическая составляющая демократического движения; Берелович А. Политические активисты демократического движения: трудности самоопределения; Монусова Г. Мотивы и ценности участия в демократическом движении // Новые социальные движения в России. По материалам российско-французского исследования, под ред. Гордона Л. и Клопова Э., М.: Прогресс-Комплекс, 1993. [117] См. Alexis Berelowitch and Michel Wieviorka, Les Russes d’en bas: Énquête sur la Russie post-communiste (Paris: Éditions du seuil, 1996), ch.1. [118] Клопов Э. Сила и слабости движения, сс.23-24. [119] Там же. С. 25-26. [120] Кабалина В. От имени кого, против кого, во имя каких ценностей. С.42. [121] Берелович А. Политические активности демократического движения, с.56. [122] Berelowitch and Wieviorka, Les Russes d’en bas, p.61-64. [123] Ibid. p.68-70. [124] Э. Клопов. Сила и слабости движения, с.28. [125] Там же. С. 27. См. тж.: Berelowitch and Wieviorka, Les Russes d’en bas, p.65-66. [126] Клопов Э. Сила и слабости движения, с.32; Берелович А. Политические активности демократического движения. С.63. [127] Кабалина В. От имени кого, против кого, во имя каких ценностей. С.46-49. [128] Там же. С. 49. [129] Клопов Э. Сила и слабости движения. С.27. [130] Там же. [131] Кабалина В. От имени кого, против кого, во имя каких ценностей. С.41. [132] Берелович А. Политические активисты демократического движения, с.60. [133] Там же. Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



