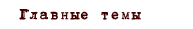
 |
История одного неуживчивого архивариуса
АРХИВНЫЙ ЮНОША - Расскажите о той своей деятельности, которая, в конце концов, привела Вас в ряды неформалов. - Всё это началось ещё в школе - в 77-м, в 78-м годах... - Я имею в виду те Ваши исследования, которые привели Вас впоследствии в «Мемориал». - Этой темой я заинтересовался по собственной инициативе. Не создавала предпосылок к этому и моя семья: я воспитывался в правоверной, чисто советской семье, которая не имела отношения к чему-то запретному и в которой не было ни историков, ни писателей. - В чём выразился этот интерес в тот период? - Сначала это выразилось в том, что я просто читал учебники по истории. Когда я учился в классе шестом-седьмом, я начал перечитывать учебники для старших классов. Затем я записался в детскую библиотеку, где открыл для себя Советскую историческую энциклопедию - знаменитый 16-томник, издававшийся с 61-го года по 75-й. (Его долго издавали.) Я начал смотреть там персоналии и обнаружил таинственные фразы, которые меня заинтересовали: «Незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован». Либо: «Незаконно репрессирован в условиях культа личности. Посмертно полностью реабилитирован». Когда я переписывал биографические справки на них, то заметил, что все годы, когда обрывается жизнь этих людей, приходятся на один период - с 37-го по 41-й. - Самое смешное, что мой интерес к запретным темам в нашей истории начался с того, что в середине 70-х годов я, тоже учась в школе, выписывал из БСЭ справки на таких же людей. - Но там не было этих фраз. - Ключом для меня служило отсутствие места смерти этих персонажей. - Позже я БСЭ тоже смотрел, но начал именно с исторической энциклопедии. То же самое обнаружилось и в литературной энциклопедии... - ...О писателях. - О писателях. И те же самые фразы. То есть существовал единый шаблон, который был использован также в педагогической энциклопедии и, по-моему, в философской. И всё. При этом нигде не расшифровывались, что обозначают эти понятия - «репрессирован» и «реабилитирован». Вот так я узнал про тот запретный плод, который меня заинтересовал и в котором я решил разобраться. Я выписывал справки на этих людей, которые встречал в энциклопедиях, в отдельную тетрадь (ещё не было моих известных карточек), и у меня получился список, может быть, на двести или двести пятьдесят человек. Когда я записался в нашу районную библиотеку, то совершенно случайно обнаружил там материалы ХХII съезда. В них я встретил фамилии тех же самых людей, но уже в ином контексте. (О них говорил Хрущёв, некоторые другие делегаты этого съезда.) Мне стало ясно, что репрессии были связаны с культом личности. Это стало ещё одним поводом вернуться к моим записям. Был в школе такой ещё эпизод... Когда мы проходили историю СССР, мы с приятелем подошли к учительнице и спросили, сколько людей было репрессировано при Сталине: больше ста тысяч или меньше? (Сто тысяч было для нас огромным числом.) Она нам сказала: «Больше ста тысяч. Но договоримся: вы ко мне не подходили, и я вам ничего не говорила». В 81-м году я окончил школу и 27 августа поступил на работу в Центральный государственный архив Октябрьской революции (ныне - ГАРФ) на Большой Пироговке, где попал в архивохранилище спецфондов (с которыми сейчас работают представители «Мемориала»). Там находились, во-первых, материалы конфискованного (украденного) и вывезенного СМЕРШевцами в 45-м году Пражского архива, а во-вторых, переданные в ЦГАОР материалы НКВД-МВД по 60-й год. Я работал в качестве регистратора-нумеровальщика дел из Пражского архива. Работал я там, кстати, вместе с Леной Струковой (наши столы стояли буквально напротив), которая, как и я, поступила туда сразу после школы - наверное, в сентябре того же года. Это была небольшая комната, куда приходили допущенные историки-исследователи (Шкаренков, Генрих Иоффе), которые работали там только с фондами русской эмиграции. А вот к материалам МВД никого из историков-исследователей тогда не допускали. В эту комнату мне приносили для обработки дела, но дальше неё меня не пускали. И в течении первого же месяца своей работы (это - август-сентябрь) я начал пробираться в архивохранилище - длинные коридоры, где стояли коробки, папки, дела - и смотреть, что же там находится. В левом крыле этого архивохранилища находились материалы Пражского архива. Я увидел, что там находятся материалы личных фондов Краснова, Корнилова, Савинкова. В правом крыле располагались материалы МВД. Там я обнаружил, например, материалы о дислокации лагерей и об учётном составе МВД, приказы по НКВД-МВД и так далее и тому подобное. Это была гора закрытых материалов с грифом «секретно» и «совсекретно». Когда у меня бывала такая возможность, я ходил то в одно крыло, то в другое. Я эти дела вынимал и быстренько их смотрел. Но мне этого делать никто не разрешал. Однажды меня за этим делом увидели (это - сентябрь 81-го), и начальник архивохранилища Дина Николаевна Нохотович мне строго-настрого запретила туда ходить, что-либо там брать и смотреть. А когда я сказал: «Ну как же? Я работаю в этом архивохранилище. Почему же мне нельзя смотреть?», она ответила: «Больно ты прыткий и любопытный! Ты не имеешь допуска, и мы тебя ещё не знаем. Мы не знаем, что ты за человек. Тебе надо себя зарекомендовать, прежде чем получить возможность вот так свободно ходить туда и свободно смотреть всё, что ты хочешь». Это заставило меня проникать туда тайно - когда сотрудники выходили на обед или ещё куда-то. Но однажды я погорел. Когда все ушли получать зарплату и я остался в хранилище один, то дошёл практически до конца хранилища, которое заканчивалось запертой дверью. Я был уверен в том, что сумею проследить момент возвращения сотрудников и услышу работу лифта и так далее. Но случилось так, что они вернулись как раз через ту дверь, возле которой я сидел и смотрел материалы НКВД. (Я отработал там буквально месяц, а в октябре вот так вот залетел.) После этого начальница тут же пошла к зав. отделом кадров и написала на меня докладную с требованием уволить - в связи с тем, что она не может за меня поручиться, так как неоднократно меня предупреждала, но я не внял её требованием. Это была проверенная 33 раза начальница - секретарь парторганизации, член Коллегии Главархива, начальник Особых фондов ЦГАОРа. (Существовал фонд революционный, фонд культуры, а были и Особые фонды.) Меня вызывает зав. отделом кадров Романов Василий Иванович и спрашивает: «Ну что мы будем с тобой делать? Она требует тебя уволить. Чтобы не портить тебе биографию, мы можем в качестве испытательного срока перевести тебя в другое архивохранилище». - По тогдашнему КЗоТу несовершеннолетного невозможно было уволить «по статье»... - Да, я - 64-го года рождения, и мне тогда было семнадцать лет. У нас был даже сокращённый рабочий день - нас на час раньше отпускали. - Да, несовершеннолетние работали только семь часов. - Я не знал законодательства так хорошо, и он мне сказал: «Мы тебя жалеем и переведём тебя в качестве самого младшего архивариуса в другое архивохранилище, где тоже нужен сотрудник». Лена осталась работать на прежнем месте, а меня перевели в архивохранилище административно-контрольных и судебно-политических органов. Там находились материалы Верховного суда, Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков - документы не полностью секретные, но ограниченного доступа. При этом моего нового начальника Фёдорова Михаила Борисовича предупредили, чтобы он за мною следил, потому что за мной тянется такой вот шлейф. Когда я к нему пришёл, он сказал: «Я всё знаю и не хочу, чтобы у нас были поводы для конфликтов. Раз ты такой любопытный, я тебе сам покажу, где у нас что лежит, а ты без моего разрешения никуда не ходи и ничего не смотри». Мы с ним сработались, хоть он и был партийным. (Там все начальники архивохранилищ - партийные.) Там я тоже что-то выписывал для себя, но делал это уже более свободно. Обстановка там была более либеральная, да и не было таких горячих документов. Там находились, например, материалы пленумов Верховного суда по конкретным делам, в том числе и по репрессиям. Я их переписывал. Были дела по реабилитации. Я их тоже переписывал. Там я проработал до своего ухода в армию в ноябре 82-го года. К этому времени у меня было уже порядка 18 тысяч карточек. А ещё летом 82-го года я поступил в Историко-архивный институт... - На вечернее отделение? - Да, вечернее. На Факультет архивного дела. Когда меня призвали, служить я попал в Прибалтику, под Вентспилс, где находилась ракетная часть № 51429. Мы в основном сидели в шахтах и несли боевое оперативное дежурство. Не буду говорить про дедовщину, которую я на себе сполна испытал. На втором году, когда служить стало легче, я, для того, чтобы не отупеть окончательно, стал по памяти соединять сведения, которые я где-то когда-то почерпнул, и начал писать исторический роман «Братья Кагановичи» - про четырёх братьев, которые все принадлежали к окружению Сталина. И успел написать три главы. Их я читал своим сослуживцам по роте - прямо в роте их зачитывал. Но это уже - 83-й год. В стране царит андроповщина. Как мне пишут с гражданки, людей хватают прямо в кинотеатрах и так далее. Ещё наши сбили корейский «боинг», международное положение обострилось, начала раскручиваться антизападная истерия, и все ждали чего-то страшного. Закончилось это тем, что у меня конфисковали тетрадку, в которой я писал роман, и вызвали в особый отдел. Полковник Николай Кузнецов, начальник особого отдела, завёл следственные материалы по обвинению меня в антисоветской агитации и пропаганде. Конкретно мне вменялось в вину разложение воинского коллектива в условиях несения службы и боевого оперативного дежурства, дискредитация обороноспособности и так далее. То есть предъявлялась 190-я статья («антисоветская агитация и пропаганда»), но в качестве воинского преступления - в условиях секретной части, где военнослужащие несут боевое оперативное дежурство, ходят на смену шесть через шесть, а я их своей антисоветчиной пытаюсь распропагандировать. - Имеется в виду шесть часов дежурства после шести часов отдыха? - Да. В этом особом отделе у меня всячески допытывались, откуда у меня такая информация, как я получал сведения, как я мог по памяти всё это написать, зачем я всё это делал и так далее. Я отвечаю: «Ну как же? Вот Иван Стаднюк об этом пишет, Чаковский пишет, почему же мне нельзя писать?» Особист мне объясняет: «Они имеют на это разрешение с самого верха. И чтобы писать о таких вещах, ты должен выучиться, получить разрешение и так далее и тому подобное, и только тогда ты будешь допущен к источникам. (Нельзя об этом писать по памяти.)». Он каждый раз снимал меня со смены, вёл эти свои беседы и писал на меня материалы. Наконец, он составил предварительное заключение по моему делу и пригрозил передать его в прокуратуру Прибалтийского военного округа. И сказал, что для того, чтобы не возбуждать дело и не передавать его военную прокуратуру, он должен получить от меня письменное заявление следующего содержания... И я под его диктовку написал: «Я, такой-то такой-то, не имел цели подорвать обороноспособность и разложить воинский коллектив. Я не занимался антисоветской агитацией и пропагандой и писал свой роман по незнанию, по недомыслию» и так далее. Я писал это под его диктовку, потому что он здорово запугал меня тем, что моё дело будет передано в суд и я получу срок, пойду в дисбат и так далее. (В условиях секретной боевой части это будет больше трёх лет.) Он взял с меня слово, что больше я писать не буду. В армии я, действительно, больше ничего не писал. После этого он взял мою тетрадочку и мои объяснения, положил в сейф и сказал: «Я должен это отправить не только в округ, но и в Москву». И пока я дослуживал до ноября 84-го года, я не знал того, что в Москву приезжали люди и вели с его подачи проверку по моему делу. Это выражалось в том, что приезжали, например, на мою работу, брали в отделе кадров моё дело, узнавали, в каком архивохранилище я работал, какой доступ и к каким материалам имел и так далее. Приходили даже к моему отцу, с которым у меня не было никакой связи и который меня не знал. (Он ушёл из семьи, когда я только родился.) И как я узнал от родственников, он от меня, по сути дела, отказался. Из армии я пришёл в ноябре, примерно с месяц передохнул, а потом восстановился в институте и пошёл трудоустраиваться на своё рабочее место в архивохранилище. По закону меня обязаны были трудоустроить в то место, откуда я уходил в армию. Но мне сказали: «Да, мы тебя берём в ту же организацию, но не на ту должность, которую ты занимал до своего ухода в армию. (Место твоё уже занято.)». Я спрашиваю: «А в других архивохранилищах?» - «А в других тоже всё занято.» Так что уже зная, что меня нельзя допускать ни к каким материалам, они взяли меня не на должность, которая связана с документами, а дали просто тачку возить по этому архивному городку. В чём заключалась моя работа? В читальном зале работали исследователи-историки, которые заказывали дела из архивохранилища. Когда эти дела подготовлены для передачи, я поднимаюсь за ними в архивохранилище, там мне их дают и я их спускаю вниз и кладу на специальную тачку, которая закрывается на ключ. И я через весь архивный городок везу эти дела в читальный зал, где передаю их под расписку сотрудникам читального зала, которые выдают их исследователям. Вот такой работой я занимался. Вот таким образом меня наказали. Видимо, ещё когда я был в армии, им объяснили, что я не должен работать ни с к какими документами и материалами. И, действительно, доступа к ним я больше не получал. (С января 85-го года я начал возить тачку.) Я понял, что мне нужно оттуда увольняться. Я предпринимал неоднократные попытки вырваться оттуда и устроиться на место, связанное с архивной работой. Весь 85-й год прошёл в таких поисках. - Вам говорили об отсутствии вакансий или отказывали без объяснений? - Я не знаю, они то ли созванивались, то ли узнавали обо мне другим образом, но места оказывались «заняты». Вроде бы комсомолец, после армии и так далее. Но только обещали и ничего не делали. (Они же все связаны между собой.) В декабре 85-го года я совершенно случайно в нашем архивном городе встретил Шорину Зою Ивановну, с которой имел дело до армии и которая теперь работала зам. начальника архива Верховного суда СССР. Мы поговорили. Я рассказал о том, чем я занимаюсь: «Вот, работа не интересная. Другой работы для меня тут нет - все вакансии заняты» и т. д. и т. п. Она ничего не знала о моих злоключениях (и я ей о них не рассказывал) и сказала: «У нас есть должность младшего архивариуса. Так что давай к нам. Только ты должен будешь проверку пройти». И объяснила: «Ты получишь доступ к материалам после того, как пройдёшь в течение месяца проверку. Ты должен получить форму допуска к совсекретным документам, и тогда сможешь работать, потому что у нас в архиве Верховного суда хранятся только такие документы». Я сказал: «Хорошо» и стал ждать. Я думал, что ничего у меня не получится, что никто мне допуск не даст и т. д. и т. п. Но через месяц я ей позвонил, и она говорит: «Всё, увольняйся и приходи - допуск получен». И с января 86-го года я начал работать в этом объединённом архиве Верховного суда и Военной коллегии. Там я увидел огромное количество материалов, с которыми нужно было работать. Но как с ними работать? У меня было мало времени на то, чтобы что-то выписывать, да и не мог я делать это открыто, на глазах моих сотрудников. Поэтому я занимался этим только тогда, когда по каким-то служебным надобностям оказывался один в архивохранилище. Например, меня посылают найти для начальства десять дел. Я беру ключи, открываю подвал, включаю свет и начинаю искать эти десять дел. Я мог сделать это, допустим, за десять минут, но я проводил там полчаса. То есть двадцать минут я тратил на то, чтобы делать выписки. - С какой целью делали выписки? - Для пополнения своей картотеки. - «Про запас», а не для написания чего-то вроде нового романа? - Нет, нет. Я делал эти выписка просто для того, чтобы пополнить свою картотеку, чтобы больше узнать о разных людях и о том, как сложилась их судьба. Ведь шёл 86-й год, и про будущие изменения в стране ничего ещё не было известно. И так продолжалось в течение всего 86-го года. Я проводил там всё больше и больше времени. Кроме того, что я делал записи в своих записных книжках, я выносил оттуда копии документов. Я понимал, что если что-то случится, меня могут обвинить в том, что я - сумасшедший, и никогда там не работал (как это бывало со многими). И я эти копии выносил. На выходе из здания Верховного суда стоял милиционер и осуществлял выборочную проверку личных вещей сотрудников: «Откройте и предъявите содержимое дипломата». Конечно, можно было что-то вынести в кармане (что я и делал), но некоторые материалы, хотя и рисковал, выносил прямо в дипломате. Но не попадался. Хотя риск был, конечно, гигантский. То есть я очень рисковал. Мне и сейчас страшно от мысли, что было бы, если бы это вскрылось. Конечно, меня бы сразу привлекли за воровство. При этом я не выносил оттуда документы, которые существовали в единственном экземпляре. Я выносил только вторую, третью, четвёртую копии. К этому меня принуждала обстановка того времени. Ведь если бы эти материалы были открыты, доступны и так далее, мне просто не было бы смысла этим заниматься. Но в той ситуации я должен был это делать. Моё стремление спускаться в грязный и пыльный подвал вместо того, чтобы сидеть вместе со всеми в тёплой комнате, было непонятно моей начальнице. Возможно, вызывало подозрение и то, что я там так много времени проводил. Кроме того, как я подозреваю, она каким-то образом всё-таки снеслась с моим прежним начальством и получила обо мне какую-то информацию. И за мною, видимо, была установлена слежка. Однажды в конце 86-го года (ноябре или декабре) я, собираясь идти после работы в институт, оставил свою записную книжку в ящике рабочего стола, который запер на ключ. На следующее утро я прихожу на работу, а начальник архива Фомичёв Сергей Иванович выкладывает мне на стол мою записную книжку (которую, как оказалось, вытащила Шорина): «Это что такое?! На каком основании ты переписываешь это в свою личную тетрадь?!» (Надо сказать, что у нас существовали специальные, хранившиеся в сейфе, совсекретные тетради для выписок из совсекретных документов - с пронумерованными страницами, скреплённые сургучной печатью. На них было написано: «В данной тетради 24 (двадцать четыре) листа, скреплённые печатью и росписью».) Начался скандал. Меня вызвали в спецотдел, который оформлял на меня допуск к совсекретным документам, к начальнику этого отдела Ромазину Сергею Борисовичу - члену Верховного суда СССР, ныне работающему в Минюсте РФ. Тот сказал: «Пиши. Мы с тебя снимаем допуск к совсекретным документам. А раз снимаем допуск, то ты не сможешь работать и будешь уволен». - «Пиши» - что? Заявление на уход? - «Пиши заявление на уход.» Я говорю: «Я писать не буду, потому что это незаконно. Вы провели незаконные действия: в моё отсутствие изъяли мою личную записную книжку. Я её никому не передавал, нигде не разглашал сведения из неё, которые дальше меня не пошли». (Они ведь не знали, что это была у меня уже, наверное, тридцатая по счёту книжка.) Они сделали запрос в тот архив, где я тачку возил, поняли, что от меня нужно избавляться, и быстро сняли с меня допуск. И сказали: «Всё это будет отправлено в органы КГБ. А теперь пиши заявление по собственному желанию». Я говорю: «Я не буду писать, потому что всё это - незаконно». - «Мы тебя всё равно уволим по соглашению сторон». Что они и сделали. - Какое может быть «соглашение сторон» в ситуации, когда Вы не были согласны? - Я не согласен, а они это формулируют как якобы «соглашение сторон» - без моего заявления об увольнении по собственному желанию. Хотя никакого соглашения с ними у меня не было. - Я что-то не помню такой формы увольнения.
«ИСТОРИЧЕСКИЕ» ЗНАКОМСТВА - В этом месте необходимо сделать отступление назад. В июле-августе 85-го года, когда я ещё возил тачку в архиве, в Москве проходила международная спартакиада молодёжи (на самом деле, Международный фестиваль молодёжи и студентов, - АП). И меня как неблагонадёжный элемент сослали за 101-й километр. Но сослали не впрямую, как алкоголика или проститутку, а отправили в колхоз. Был уже 85-й год, и изолировать неблагонадёжных следовало не так откровенно, как лиц с судимостями или, например, неоднократно нарушавших паспортный режим, а убирать из Москвы тонким, хитрым способом: якобы из Ленинского райкома партии в архив пришла разнарядка на отправку людей в колхоз. А кого оттуда отправляли в колхоз? - того, кто на плохом счету, кто уже имел проблемы с администрацией, того, кто может контактировать с приехавшими в Москву многочисленными иностранцами. Меня отправили в колхоз «Красный балтиец», располагавшийся в двух-трёх километрах за Можайском. (Наш архив почему-то был приписан к Можайскому району.) Там я познакомился с отправленным туда не знаю уж по каким причинам из Музея изобразительных искусств имени Пушкина (отправленным буквально Антоновой) Виктором Александровичем Мизиано, являющимся сейчас главным редактором художественного журнала и куратором различных модных современных проектов. (Он мне тогда всё время говорил: «Ты знаешь, я думаю увольняться. Здесь нет свободы, здесь Антонова всё плотно держит, не даёт развернуться, а темы, которые предлагают, мне не интересны».) Его, видимо, тоже отправили туда неспроста, хотя он и не был засвечен в такой степени, как я. Просто он знал языки, бывал за границей и имел, наверное, модные в то время левые убеждения. Видимо, в органах что-то на него было, и Антонова выбрала его... - И отправила, так сказать, «на перевоспитание». - Да. Он был выпускником истфака МГУ. Его мама - известный специалист по новой и новейшей истории, неоднократно бывавшая в Италии. Его дед Франческо Мизиано - сподвижник Антонио Грамши, Умберто Террачинни и других основателей Компартии Италии. В течении месяца он жил со мной в одном бараке. и мы с нам общались. Началось с того, что я спросил его: «Как твоя фамилия?» Он отвечает: «Мизиано». Я говорю: «Ничего себе! А кем приходится тебе Франческо Мизиано?» Его потряс этот вопрос, прозвучавший в этом вот бараке среди пьяных людей. Я объясняю: «Просто я в своё время читал про таких деятелей. Он, кажется, в 36-м году здесь умер - в России. Может, его отравили?» И вот так - слово за слово - начались наши разговоры. Он мне стал рассказывать удивительные вещи, о которых я до этого слышал только по «голосам» - например, о Рое Медведеве, которого он знал. (Его мама была в хороших отношениях с Роем Медведевым.) Для меня это была фигура планетарного масштаба! - А он знал про Ваши карточки? Вы ему открылись? - Нет. Я ведь тогда ещё не работал в Верховном суде. Я ему рассказывал только про то, что меня интересует эта тема, что я писал «Братьев Кагановичей», что меня турнули, что сейчас я вожу тачку. То есть рассказывал не всё сразу, а постепенно проникаясь к нему доверием. За этот месяц мы сблизилось настолько, что он сказал мне: «Давай, я тебя познакомлю с людьми, с которыми я учился и которые тебя и просветят и выведут на Роя Медведева». Это были Серёжа Харламов и Володя Прибыловский, которых я не знал и о которых впервые услышал только с его слов. С 85-го года и началась моё знакомство с ними. Общаясь с ними, я им потихоньку всё рассказывал. Володя меня неоднократно предупреждал: «Надо быть осторожней. Надо быть осторожней. Надо быть осторожней». Серёже Харламову я, вообще, приносил некоторые материалы, которые он переписывал, например, материалы судебного процесса 1956 года в Баку - дело о расследовании преступлений Багирова, Атакишиева и других. Выносил какое-то судебное дело Верховного суда и Военной коллегии и говорил: «Вот, что называется, на одну ночь. А это - на два дня». Я, конечно, очень рисковал, но он тогда хотел писать альтернативную историю КПСС, и я ему для этой цели и приносил материалы. Конечно, украсть дело я не мог: я его приносил, а потом возвращал обратно. (Воровал я только копии.) Но очень боялся попасться. И правильно Гриша Пельман рассказывал (См.): чтобы внести дело обратно, я его прятал буквально под пиджак и под рубашку, засовывая под ремень. Серёжа Харламов Гришу знал и, видимо, рассказывал ему, не называя меня: вот есть у меня такой человек в Верховном суде, который мне помогает писать альтернативную историю КПСС. (Я это делал потому, что знал, что Серёже это надо.) А Серёжа Харламов снабжал меня самиздатом, с которым я не был знаком. Давал, например, «Большой террор» Конквеста, Роя Медведева или отдельные «кирпичи» Солженицына. И посевские издания, за которые в 70-е года срока давали, тоже мне приносил. Это всё были ксероксные издания, которые каким-то образом делались у кого-то на работе. И эти люди тоже рисковали. Известен случай, когда человек, работавший, кажется, в газетном зале Библиотеки Ленина в Химках и использовавший ксерокс для размножения тамиздатских книг, получил срок - по-моему, три года. Конечно, и Серёжа рисковал, давая мне читать такие книги, за которые тогда, в 86-м году, вполне могли если и не посадить, то «привлечь» и ещё что-нибудь сотворить. Никто не знал, что могло быть. Володя Прибыловский тоже давал мне читать самиздат и тоже рисковал. И я рисковал, когда приносил ему дела по реабилитации Н. П. Яроша (отца его знакомого), М. П. Бронштейна (мужа Лидии Чуковской) и Александра Солженицына, которые он перепечатывал. Поле того, как я тогда засыпался, я оставил у себя дома только записные книжки. А все материалы, которые я изъял из архива, я хранил, в основном, у Володи Прибыловского. Тот работал тогда в Новоиерусалимском монастыре в Истре и держал их там. - А ту злосчастную записную книжку Вам так и не вернули? - Изъяли с концами. - Прибыловский является автором записанных мною воспоминаний об этом времени, в которых, кстати, он упоминает и Харламова. В связи с этим мне интересны обстоятельства Вашего знакомства с этими людьми. Это произошло, случайно, не в Переделкино, где Вы потом встречались, по крайней мере, с Прибыловским? - Нет, нет, нет. Сначала произошло знакомство с Серёжей Харламовым, который тоже был сокурсником Вити Мизиано. Витя рассказал обо мне Серёже Харламову, и тот мне позвонил и пригласил к себе в гости. (Он живет недалеко от меня на улице Панфёрова.) И уже Серёжа Харламов познакомил меня с Володей Прибыловским. Произошло это так. Мы вместе с Серёжей Харламовым поехали к нему в город Истру, где он работал сотрудником музея «Новый Иерусалим», и там я с ним и познакомился. Потом мы бывали у него на съёмной квартире в Москве. Так что примерно в сентябре-октябре 85-го года я познакомился сначала с Серёжей Харламовым, а чуть позже через него - с Володей Прибыловским. В 86-м году мы с Володей Прибыловским уже ездили сбрасывать снег с крыши на даче Чуковских [в Переделкино].
ВЕЧЕРА В ЦДЛ После увольнения из архива начинаются мои скитания в поисках работы. С января 87-го года я начинаю работать помощником печатника в типографии «Известий»... - Любопытно, что я именно в 87-м году работал учеником печатника. - Одновременно в стране начинаются какие-то перемены, стали что-то публиковать. В конце 86-го года в журнале «Знамя» вышло, например, «Новое назначение» Бека, где впервые написано о Сталине. Начало 87-го года: появляется «Зубр» Гранина - роман о Тимофееве-Ресовском, где глухо, но всё-таки говорится о том, что он работал в условиях заключения в Миассе Челябинской области. В стране начинается какое-то брожение. Весь 86-й год я сидел тихо. Но когда в 87-м году я почувствовал, что уже потеплело, я решил открыться. Произошло это 13 апреля - на вечер Натана Эйдельмана. В преддверии «славного 70-летия Октября» Эйдельману позволили провести серию вечеров, каждый из которых посвящался обсуждению одного из «славных десятилетий» (так это называлось). Для этого раз или два в месяц он собирал в малом зале ЦДЛ своих знакомых историков и писателей. Первый вечер - «1917-1927» - я пропустил. А на второй («1927-1937») мне удалось пробраться. Пригласительный билет мне дал писатель и бывший сталинский сиделец Арсений Иванович Рутько. (Он умер в 1988 году.) Зал забит. (Народ туда просто ломился.) В президиуме - Данин, Шатров, Разгон. (Все эти, как их называли, «аэропортовские идиоты» - писатели, компактно проживающие в районе метро «Аэропорт» на улицах Черняховского и Усиевича.) Ведёт вечер сам Эйдельман. Проходит вечер очень скучно, неинтересно. Говорят обо всём, о чём угодно. С докладом о культе личности выступил Борисов, что-то мямливший в духе ХХ и ХХII съездов. Доклад был крайне неинтересный. Но и он явился огромным событием, потому что эту тему уже лет двадцать-тридцать не вспоминали. - Что это за Борисов? - Юрий Степанович Борисов - доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Академии наук СССР. Видимо, его партком уполномочил гнать эту тему (культ личности и его последствия, образ Сталина, образ культа личности и вокруг этого), и он делал это потом в разных аудиториях - не только в ЦДЛ, но и в Историко-архивном, в Институте востоковедения, Институте балканистики и славяноведения. (Он был в Москве нарасхват.) ...Выступил также доктор исторических наук Лельчук Виктор Семёнович - со своей проблемой индустриализации, ещё кто-то. Последовало обсуждение. Но было ужасно скучно. Я попросил слово: «Прошу предоставить слово студенту Историко-архивного института...» (хотя я к тому времени студентом уже не был). Эйдельман обращается к залу: «Заседание у нас заканчивается, но тут один студент просит слово. Дадим?» - «Да, давайте дадим, и разойдёмся!» И тут я как начал! Я рассказал, как избивали Мейерхольда, как следователь Родос заставлял его пить собственную мочу, как сам на него мочился, как он ему сломал левую руку, а правую оставил для того, чтобы тот мог подписывать протоколы - всё то, что Мейерхольд сам описывал в своих письмах на имя Молотова, Вышинского, Сталина и так далее. Это была бомба. Все были просто в шоке. Было слышно, как муха летает - такая стояла тишина. И предоставленные мне пять или десять минут растянулись на сорок. А потом ещё вопросы. Это выступление записал на кассету мой знакомый Витя Меркулов. После выступления мы сразу же поехали к Володе Прибыловскому, который за ночь расшифровал весь его текст и по своим каналам отправил в Париж, в «Русскую мысль», где он и был опубликован. Но на следующие заседания («1937-1947» и «1947-1957») я попасть не смог - меня уже не пускали. Меня просто туда не пускали. - Кто не пускал? - По распоряжению директора Центрального дома литераторов Носкова. Я не имел формального права присутствовать на этих вечерах, так как для этого нужно было иметь пригласительный билет... - Но ведь в первый раз Вам удалось пройти... - Тогда мне дали билет, но на следующий вечер я не смог его получить. И Эйдельман мне сказал: «Ты знаешь, я тебе прошу. Если ты хочешь, я тебя проведу, но ты должен сидеть тихо и ничего не говорить. Понимаешь? Ты знаешь: я еле-еле выдерживаю натиск после того вечера. Ведь эти мои вечера могут быть прикрыты, и мне просто больше не дадут площадку. Понимаешь? Этот зазор, который сейчас имеется, просто прихлопнут. И мы не знаем, что будет дальше». Я говорю: «Хорошо, хорошо». - И всё-таки прошли туда? - Да. Был ещё один случай, когда мерзавец Борин (кстати, друг Эйдельмана)... - Юрий Борин - автор сборников анекдотов про Сталина? - Нет, тот - Юрий Борев. А этот - Александр Борин, спецкор «Литературной газеты». - Признаться, я всегда думал, что это - одно и то же лицо. - Так вот, однажды Эйдельман провёл меня на вечер с участием Владимира Ивановича Теребилова - члена ЦК КПСС, председателя Верховного суда СССР, откуда меня выгнали в 86-м году. А надо сказать, что это Теребилов брал меня на работу в 86-м году, и что я проходил собеседование не только в спецотделе, но и у самого первого лица. И когда я был ему представлен, председатель Верховного суда поставил визу: «Согласен на работу в архиве такого-то». Когда Борин организовал в ЦДЛ вечер этого Теребилова (в силу того, что был вхож в Верховный суд, где ему давали кое-какие материалы для статей в «Литературной газете»), он был категорически против того, чтобы Эйдельман меня туда провёл. Эйдельман провёл и сказал: «Ты сиди, но только молчи». И я, действительно, молчал. Когда кто-то из присутствовавших писателей задал вопрос обо мне, Теребилов рассказал: «Да, он работал у нас. Но он вырывал листы из дел и документов и забирал их. За это мы его уволили». Тут я вскочил и закричал: «Это - ложь!», и начался скандал. Заседание свернули, меня оттуда вытащили. Борин бегал весь красный от злобы и ярости, сознавая, что он с таким трудом вытащил Теребилова (в интересах не знаю чего - своей карьеры, статей в «Литгазете»), а тут вдруг - такое дело: Теребилов расстроился. А Борин - друг (или приятель) Эйдельмана. И Эйдельман говорит мне: «Что ты там натворил?! Ты меня подвёл!». Я говорю: «Но это же клевета! Меня ведь уволил не за то, что я вырывал и что-то там похищал - в этом случае меня бы давно посадили. Понимаете? Меня уволили за то, что нашли мою записную книжку. Он же лжёт!» - «Ты представляешь, про кого ты сказал - «лжёт»? Он же - член ЦК партии! Такое сказать?! Ты что?» Даниил Семёнович Данин, который нам рассказывал о Пастернаке и на вечерах в ЦДЛ, и в своей книги «Бремя стыда», говорит мне в лицо: «Да я Вам не верю! Может быть, Вы - агент органов госбезопасности!». Я говорю: «Да как Вы смеете?!» - «А я Вам не верю. Да не могли Вы там работать! (Вы не можете быть допущены к таким делам.)» То есть буквально все на меня ополчились. Потом в записных книжках Эйдельмана, опубликованных его вдовой Юлией Иосифовной Мадорой, я нашёл запись о том, что Борин говорил Эйдельману, что я - не тот, за кого себя выдаю, что я там, вообще, не работал, что я - чуть ли ни агент, что тут может быть провокация и что от меня надо держаться подальше. (Это же есть и в «воспоминаниях» Борина, опубликованных в «Вопросах литературы».) А потом Эйдельман написал: «Да, мы очень сомневались в Юрасове. Но прошло столько времени, и мы поняли, как мы ошибались». Сарнов ещё сказал тогда: «Нет, Эйдельман верил, но он не знал, кому верил». Я был просто в шоке: столько людей это видели (полные залы были), всё происходило на их глазах, а эти почему-то всё ставят с ног на голову. Оказалось, что тогда мне и моим рассказам не верили. Когда «воспоминания» Борина об Эйдельмане были опубликованы, я пришёл в «ВопЛи» к Лазарю Ильичу Лазареву и говорю: «Это же всё клевета - что я там не работал, что я - не тот, за кого себя выдаю. Что он пишет? Полно свидетелей, которые знают, как было дело. Я в суд подам». Короче говоря, мой ответ на так называемые воспоминания Борина еле-еле опубликовал В. Я. Гордин в ленинградской «Звезде», при этом самые сильные его места были выброшены. А ответ самого Борина на это письмо был помещён и в «Звезде», и в «ВопЛях»! Я понял, что это - отвратительная мафия: все эти лазаревы, борины... После этого случая путь на все эти вечера был мне закрыт, и я больше на них не ходил. ДИССИДЕНТСКИЕ КУХНИ В 87-м году я познакомился с диссидентами, выпущенными по так называемой «горбачёвской амнистии». Например, с Сергеем Ивановичем Григорьянцем, который в мае 87-го года начал издавать бюллетень «Гласность». - А не в августе? - Ну, возможно. Хотя, по-моему, это произошло раньше. По-моему, первый номер вышел в мае или июне - не позже. Во всяком случае, как только он по этой апрельской амнистии оказался на свободе, то начал издавать «Гласность». Тогда я с ним и познакомился. Григорьянц в это время вовсю общался с иностранцами и говорил о тех, кто ещё не освобождён по этой «горбачёвской амнистии» и находится в заключении. В общем, в одном из номеров «Гласности» (втором или третьем) я опубликовал свою статью «Уничтожение архивов в СССР». Написана она на основе моих личных впечатлениях от работы в архиве Верховного суда, где я сам участвовал в уничтожении материалов, которые якобы не представляют ценности. (Они просто сжигались.) Если они не представляют ценности, то передавайте их на постоянное хранение в ЦГАОР, как положено по закону. Но их не передавали. Почему, не знаю. По указанию начальства мы их сжигали. На территории суда находилась сжигалка, где мы во время так называемых «ленинских субботников» эти дела сжигали. В этом я лично участвовал и об этом написал, обвинив лично Теребилова в том, что это было сделано по его как председателя Верховного суда указанию. - Вы смотрели состав этих уничтожаемых документов? Насколько они представляли интерес для истории? - Это были постановления по конкретным делам, проходившим через Верховный суд. - Насколько они, по Вашей оценке, были интересны для истории? - Я могу сказать, что в основном уничтожилась дела людей, осуждённых на разные сроки, даже не обязательно по антисоветской агитации и пропаганде. (Дела лиц, получивших высшую меру наказания, остаются навечно.) Например, людей, осуждённых по закону об опозданиях. Дали, например, человеку год, а он доходит до Верховного суда, и Верховный суд меняет ему наказание и даёт, допустим, не год, а полгода. И вот эти дела уничтожались как якобы малозначимые. Но как это «малозначимые»? Мы же должны знать, сколько людей пропущено по этому драконовскому закону об опозданиях. Или по закону о запрещении абортов. Так называемые «женщины-абортчицы» тоже проходили через Верховный суд. (Судили их, конечно, на местах, но они имели право подать на кассацию плоть до Верховного суда.) И их дела тоже уничтожались. Уничтожались и дела по такой чисто уголовной статье, как «хищение в условиях военного времени», а также по «особо опасным деяниям в условиях военного времени» вообще. (В условиях военного времени произошло ужесточение закона.) Дела, например, мародёров, паникёров или людей, уличённых в ведении антисоветской агитации, тоже уничтожались, хотя эти лица были законно расстреляны, допустим, в городе Москве в октябре 41-го года и не подлежали реабилитации. (Эти люди ждали прихода немцев и говорили: «Скорее бы, скорее бы они пришли». Или: «Скорей давай грабить».) Общее количество таких уничтоженных дел составляло многие сотни. Об этом обо всём и была моя статья. Цитировали её и по Радио «Свобода». Статья эта настолько их взбесила, что 7-го (или 9-го?) сентября 87-го года они устроили у меня в квартире погром: вытащили все мои записные книжки, перевернули карточки и т. д. и т. п. Но они, видимо, не знали о том, что самое главное находилось у Володи. Потому что если бы они нашли те материалы, то наверняка меня бы забрали, обвинили в воровстве и так далее. Потому что я всё-таки довольно много сумел из архива... - Имеется в виду, копий? - Вот именно - копий. Вторые, третьи экземпляры. (Но это, всё-таки, их экземпляры, с неснятыми грифами.) А первые экземпляры в архиве остались. Повторю: я не брал того, что было в одном экземпляре. Я об этом с Володей говорил и всё это у него хранил. Он долгое время жил на съёмной квартире и хранил это всё в Истре, в Новоиерусалимском монастыре. (Туда я их ему отвозил.) - Меня интересуют процессуальные подробности «погрома». (Каким образом он был оформлен?) - Никак. В тот день мои домашние были на даче, а я пришёл домой очень поздно. Пришёл и увидел: ящики вытащены, карточки разбросаны, книги валяются вперемешку. И изъято именно то, что мною было сделано в архиве. Это была профессиональная работа. Ту записную книжку, которую они когда-то получили, они использовали в качестве образца того, что нужно искать и изымать. И именно записные книжки изъяли. Они не взяли, допустим, карточки. Они взяли только записные книжки - единственное, что осталось после того, как я вывез из дома всё то, что там было опасно хранить и за что меня могли «привлечь». Страшно подумать, что было бы, если они изъяли то, что я у них вытащил. Тогда бы они меня точно «взяли». - То есть это был «негласный» погром, в отличие, скажем, от известного погрома на даче Григорьянца в 88-м году? - Это был «негласный» погром. Я пошёл к Григорьянцу, у которого я, что называется, дневал и ночевал, и сделал там заявление для иностранных журналистов. (У него всегда толклась такая компания: Пилар Бонет («Эль Паис»), Дмитрий Волчек («Митин журнал»), Подрабинек («Экспресс-хроника»), ещё кто-то. Для них я и сделал своё заявление.) Я думал, что меня не сегодня - завтра возьмут, и поэтому делал как можно больше заявлений. Володе же Прибыловскому я говорил: «Если меня возьмут, сразу же пускай в дело мои материалы». Потому что тут же скажут, что я сумасшедший и нигде не работал. Я уже понял эту систему. То, что я слышал от Данина (что «Вы не тот, за кого себя выдаёте») показывало, что следующей установкой этих людей будет сказать, что я - сумасшедший. Потом я слышал от Эйдельмана, что меня якобы спас Яковлев. Эйдельман говорил мне лично, что якобы Александр Николаевич Яковлев где-то там замолвил за меня словечко. Что касается всех остальных этих мерзавцев типа Егора Яковлева, то когда я познакомился с Чаликовой, являвшейся специалистом по Оруэллу и работавшей в институте... - ИНИОНе. - Да, в ИНИОНе. Чтобы меня не грохнули, не схватили или не объявили сумасшедшим, она написала обо мне статью, в которой, правда, не упомянула о том, что я изымал документы (хотя я ей об этом рассказывал). И куда она её только ни носила! И в «Знамя», и в «Новый мир», и туда, и сюда, и, неоднократно, Яковлеву. (Тогда же «Московскими новостями» все зачитывались!) Но он ей сказал в открытую: «Если бы он не общался с Григорьянцем и другой бывшей диссидухой и не публиковался в «Гласности», мы бы и статью о нём опубликовали, и его самого бы напечатали. А так у нас есть распоряжение с самого верха: о нём – ни слова». (Это его буквальные слова, которые она мне передала.) Куда я только ни ходил! Вместе с Чаликовой ходил к Лакшину, который тогда был главным редактором журнала «Знамя». (Помещался он тогда на Тверском бульваре, недалеко от театра имени Пушкина.) Нет! Без меня она ходила в «Новый мир». Нет! Показывала Анатолию Стреляному, который в «Новом мире» тогда работал. Он говорит: «Не могу ничего сделать. Не могу - есть запрет». И везде: «Нет!», «Нет!», «Нет!», «Нет!» и «Нет!» Ну куда уж было тогда подаваться, как не в «Московские новости»? Она мне говорила: «И зачем ты, ну зачем ты с ними (с Григорьянцем) связался? Ты что, не понимаешь: их не сегодня - завтра посадят? Ты что, тоже хочешь?» Я говорю: «А куда мне было ещё обращаться с этой статьёй?» - «Но ты понимаешь, что ты сам себе всё перекрыл? Именно поэтому они не хотят тебя публиковать.» Ей удалось опубликовать ту свою статью только в октябре 88-го года в журнале «Нева» (через Битова). Но к тому времени я уже был легализован программой «Взгляд», которая прорвала эту завесу вокруг меня. Это произошло в июне 88-го года с помощью Политковского, Листьева, Захарова и Любимова, которые первыми не побоялись легализовать меня. Сюжет обо мне был небольшим (может быть, пять минут), но зато прогремел на всю страну. А узнали они обо мне из разных источников - не только благодаря «Свободе», но и тем интервью, что я давал датчанам, немцам, американцам и т. д. и т. п. Таким образом, вот это моё совершенно непонятное положение, когда я давал интервью инокорреспондентам и ждал посадки, длилось с сентября 87-го года по июнь 88-го. - Вы нигде не работали в течение этого периода? - После типографии газеты «Известия» я некоторое время работал штамповщиком на прессе в ГПЗ-2 на Шаболовке, с лета 87-го года - грузчиком на парфюмерной фабрике «Новая заря», с января 88-го года - помощником осветителя (а потом и осветителем) на киностудии «Мосфильм». - А институт Вам удалось окончить? - Нет. Нет. Я был отчислен в конце 86-го года. - Это в связи с репрессиями в отношении Вас? - Да, конечно. Я был просто не допущен к экзаменам. - А причина?.. - Недопущение к сессии. - Я всё хочу понять, по какой причине: насколько тут замешана «политика», были ли даны какие-то разъяснения относительно причин, насколько к этому причастен Афанасьев? - По-моему, тогда ещё не было Афанасьева. По-моему, тогда ещё был другой ректор - Пивовар Ефим Иосифович, который ныне работает на истфаке МГУ. (Е. И. Пивовар является в настоящее время ректором РГГУ, - АП.) - Если я не ошибаюсь, Афанасьев там - с 86-го года. - Во всяком случае, это не при нём было сделано. Он меня потом (в 88-м году) восстановил, но я учиться уже отказался. У меня с ним вышел конфликт. Он мне сказал: «Ты получи высшее образование, и потом будешь иметь карт-бланш для выступлений». Я ему сказал, что я Вашим путём не пойду. Потому что я знал, на чём он сделал свои диссертации. - Так политика к Вашему исключению никак не причастна? - Не знаю. Насчёт этого ничего не могу сказать. - Изъятые записные книжки Вам потом не вернули? - По поводу них я писал в сентябре 91-го года в КГБ, в прокуратуру, в военную прокуратуру, но мне ответили, что у них ничего нет. Обращался и к так называемым экспертам «Мемориала» - Петрову, Охотину, Рогинскому, но они отвечали: мол, пытайся сам найти, дружок. - Меня интересуют обстоятельства Вашего знакомства с диссидентами. - После того, как я выступил на семинаре Эйдельмана в ЦДЛ с рассказом о всей этой своей архивной истории, ко мне подошла Анна Михайловна Гришина, дала свой телефон и сказала: «Я хочу, чтобы Вы у нас побывали. Мы хотим с Вами познакомиться» и так далее. - Я был с ней знаком в более поздние времена и не знаю, кем она была в 80-е годы. - Ко времени нашего знакомства она была кандидатом исторических наук, сотрудником Института востоковедения на Рождественке. Когда я к ней пришёл, она сказала: «Я Вас хочу познакомить с моей подругой Викторией Атóмовной Чаликовой, которую я знаю очень давно. Она хочет с Вами познакомиться и даже, может быть, что-то о Вас написать». А Виктория Атомовна Чаликова познакомила меня со своей подругой Инной Рековской, которая была вдовой Алексея Эйснера и работала с Чаликовой в ИНИОНе в одном отделе. Её сын Митя Эйснер был знаком с Григорьянцем. С этого и начались мои знакомства с диссидентами – Григорьянцем, Шилковым, Леной Санниковой. И больше всего общения в тот период у меня было с Григорьянцем и его окружением. Он всё хотел, чтобы я стал сотрудником его «Гласности». Но меня больше интересовали исследования, архивы, исторические бумаги, и я говорил: «Не хочу заниматься текучкой». После того, как я прогремел на всю страну, я стал во всю общаться и с писателями - Карякиным (я был у него), Камилом Икрамовым, Феликсом Световым (который тоже тогда вернулся из ссылки и который помогал мне материально; бывал он и у меня дома). Камил Икрамов познакомил меня с Анной Михайловной Лариной-Бухариной, у которой я тоже бывал. Побывал я и у Евтушенко. В 87-м году побывал я и у Даниэля (и его второй жена Ирины Петровны Уваровой). Когда у меня случилась катастрофа с моим архивом, я тут же отправился к нему, чтобы он мне поспособствовал и не дал обо мне забыть. Что он и пообещал. У меня бывал и упоминавшийся Солженицыным в «Архипелаге...» Володя Гершуни, с которым меня познакомил Евгений Александрович Шаповал - отец моего армейского приятеля. Когда началась Пушкинская площадь и «гайд-парк», Гершуни всё время звал меня: «Приходи, приходи!» Зоря Николаевна Зимина (дочка расстрелянного члена ЦК, 1-го секретаря Ярославского обкома партии Зимина) и её муж Игорь Иосифович Пятницкий (сын руководителя Коминтерна Пятницкого), который тоже сидел, познакомили меня с Сахаровыми, у которых я побывал. - Дату не помните? - Это - конец 87-го года. Познакомился я тогда и с Вадимом Борисовым, который потом стал душеприказчиком Солженицына в плане литературных прав. А тогда он был безработным религиозным историком и философом и жил на улице Чаплыгина. Он давал мне читать книги по церковной истории и тамиздат. - А вывел Вас Мизиано на Роя Медведева? - Да, через своего друга Алексея Собченко. Мизиано познакомил меня у себя на квартире на улице Горького с Алексеем Собченко и вместе с Собченко и Серёжей Харламовым мы поехали к Рою Медведеву в его хрущёвку на улице Дыбенко. Это был конец 86-го года. - У Вас установилось с Медведевым какое-нибудь сотрудничество? - Я был у него несколько раз - сначала вместе с Собченко, а потом и самостоятельно. Он писал тогда, по-моему, книгу об Андропове, и я передавал ему какие-то материалы. Он тогда ещё не проявил себя так, как в 90-е годы, став депутатом, членом ЦК и т. д. и т. п. Тогда он находился в опале и был мне очень интересен. Он мне рассказывал: «Сейчас ты ко мне свободно приходишь, а раньше у меня здесь постоянно милиционер сидел - то в форме, то в штатском, то на лавочке, то здесь - в подъезде на пятом этаже. - На квартирах Вы выступали только для названных Вами людей или также ещё для какого-то круга их знакомых? - Или только для них, или, если кто-то приходил, то и для знакомых. Такое практиковала, например, Чаликова. - Не вспомните всех людей, в чьих квартирах проходили такие встречи? - Они проходили у Анны Михайловны Гришиной, Виктории Атомовны Чаликовой, Камила Акмальевича Икрамова, Юлия Марковича Даниэля, Юрия Александровича Левады, сотрудницы Левады Ноткиной (которую потом, по-моему, убили), Бориса Петровича Курашвили, на квартире Риковских и Эйснера, у Евгения Александровича Шаповала, Карякина, Евтушенко, Сахарова, на квартире Григорьянца в районе «Медведково», у Разгона, на даче известного археолога Георгия Борисовича Фёдорова в Климовске, на даче у Майи Рошаль (дочери режиссёра Григория Рошаля; её сын - известный диссидент и художник Миша(?) Рошаль, друг Мизиано), на квартире Михаила Яковлевича Гефтера, у Арсения Ивановича Рутько, детского писателя Юрия Коренца (у него отец был репрессирован), у писателей Валентина Оскоцкого, Игоря Минутко, Володи Корнилова (уже умер), Булата Окуджавы, Льва Овалова, у Кронида Любарского, у актёра Пороховщикова, у внука Григория Петровского (это в честь которого город назван) Леонида Петровича Петровского, у кинокритика Татьяны Михайловны Хлоплянкиной (тоже уже умерла), у Сергея Никитича Хрущёва, у академика Лихачёва... У кого ещё? Могу вспомнить переводчиков с польского - члена Союза писателей Наталью Астафьеву (в результате репрессий она потеряла и отца, и мать) и её мужа Володю Британишского. Они жили на Грузинской, в одном доме с Разгоном. Вообще, после ЦДЛовского скандала я бывал у многих писателей. В тот период особенно меня поддерживали Камил Икрамов и Юрий Карякин. (Но когда Карякин стал народным депутатом СССР и членом Президентского совета, он сильно изменился.)
КЛУБ «ПЕРЕСТРОЙКА» - Когда и благодаря кому Вы оказались в клубе «Перестройка»? Как началась Ваша общественная деятельность? - Процесс моего приобщения к клубу «Перестройка» ассоциируется у меня с именами двоих людей - Володи Прибыловского и Димы Леонова. Почему? Потому что от Володи Прибыловского (и ещё Серёжи Харламова) я узнал о том, что существует вот такой клуб, который действует на базе ЦЭМИ (Центрального экономико-математического института), куда якобы по разнарядке Севастопольского райкома партии можно проходить неформалам. (И эти неформалы там собираются.) Приводили меня туда, как я помню, Володя Прибыловский и Серёжа Харламов. А до этого через ИНИОН, через Чаликову я познакомился с Димой Леоновым, который одно время был мужем Нины Брагинской. И он меня приглашал на кухонные, застольные посиделки с тем, чтобы я рассказывал о своей работе в архиве. Например, Дима Леонов познакомил меня с Юрием Левадой (будущим директором ВЦИОМ) и Борисом Петровичем Курашвили - доктором исторических наук, который потом почему-то резко полевел и стал вдруг очень сильно красным. А в своё время он меня очень поддерживал, записывал мои рассказы о своей работе, о процессах. (Его интересовали процессы в Закавказье - дело Багирова, репрессии в отношении грузин и так далее.) Так что я бывал ещё у Левады и Курашвили. Организовывал это всё Дима Леонов. Когда Дима Леонов узнал о клубе «Перестройка» на базе ЦЭМИ, то тоже меня туда позвал. Я ему сказал, что я и так там буду. То есть там мы все, можно сказать, и встретились. Там я впервые увидел, например, Станкевича, который от Севастопольского райкома был приставлен надзирать за неформалами. Кого ещё я там помню? Я помню одного психа - Олега Александровича Лямина, который бесконечно выступал по каждому поводу и о котором, по-моему, много написано у Шубина в его последней книге «Перестройка и неформалы». Помню Вячека Игрунова с его инициативами, Юру Самодурова с его инициативами, помню Глеба Павловского, Гришу Пельмана, Исаева... - С какими инициативами? - На первом заседании клуба я не был, но на втором, третьем, четвёртом общем заседании, где присутствовало 100-150-200 человек, формировались небольшие группки по интересам - по тем или иным актуальным вопросам. Скажем, кто-то занимался какими-то марксистскими вопросами, как, например, Кагарлицкий, который, по-моему, больше идеологией занимался. Кроме группы Кагарлицкого и нашей была ещё группа Митюнова, группа Шубина, ещё кого-то... - Вспомните, чем эти группы занимались. - В книге Шубина об этом чуть-чуть есть. Кстати, в ней я ничего нового для себя не увидел. Но он там совершенно правильно написал, что молодёжь была использована старшим поколением (всеми этими афанасьевыми, егорами яковлевыми и т. д. и т. п.), которые ею воспользовалось как некоей ступенькой на пути достижения своей карьеры и своих интересов. (Но это выяснилось потом.) Я прекрасно помню, как Шубин и Исаев приходили к нам в Историко-архивный институт. Я, правда, тогда уже в институте не учился, но время от времени приходил туда. И однажды они пришли вместе от группы «Община» - лекцию какую-то читать для студентов. (Это - 87-й или 88-й год.) Был Шубин - худой, с бородкой, и Исаев - такой номенклатурный Исаев. (Он мне уже тогда показался таким.) Они провели какое-то мероприятие и рассказали о своей «Общине». - А когда в клубе «Перестройка» началось вот это вот кучкование по интересам - до Вашего прихода туда или уже при Вас? - Мне кажется, что оно произошло уже при мне. После того, как я начал туда ходить, Дима Леонов однажды звонит мне (обычно он мне звонил) и говорит: «Мы тут решили (и называет прежде всего Юру Самодурова, Вячека Игрунова, - Д.Ю.) создать группу «Памятник». Будешь ли ты принимать участие в нашей группе?» Я говорю: «Да, буду». - «Тогда приходи на клуб «Перестройка». Мы там выдвинем эту идею. Выступлю я, Юра Самодуров и Вячек Игрунов.» ...Что было на клубе «Перестройка»? Вёл эти заседания Перламутров, который был замдиректора и секретарь парторганизации. Хорошо помню тех, кто постоянно выступал. Постоянно выступал Вячек Игрунов, постоянно выступал Самодуров. Лямин участвовал, по-моему, во всех группах помаленьку и по каждому вопросу тоже выступал. Прекрасно помню Кожокина, который сейчас фигура - доктор наук, директор института, а тогда был, по-моему, кандидатом наук и работал в каком-то институте. Он тоже приходил туда и выступал с какими-то инициативами. Туда приходил, например, Юрий Фёдорович Карякин. Выступал и рассказывал о чём-то о своём - о Достоевском, о перестройке. Почти каждое заседание посещал Володя Прибыловский. А вот Серёжа Харламов бывал не на каждом. Сам я приводил туда Григорьянца. А выступал я очень редко - в основном, по поводу архивов и своей деятельности. А однажды в 88-м году Лысенко пригласил меня выступить на встрече в ДК МАИ. - А, клуб «Орбита». - Он дал мне там один раз выступить. Но когда я обрушился на компартию, он быстренько свернул моё выступление: мол, не стоит марать всех чохом. Он сам был партийным и боялся, что этот клуб прикроют. Затаскивал я туда и моего армейского приятеля Серёжу Королёва, который тоже призывался из Москвы. Он со мной ходил-ходил, а однажды летом (может, в мае или июне) 88-го года, когда я уже практически перестал ходить на клуб, мы с ним встретились и выпили. Он предложил пойти погулять и вдруг говорит: «Однажды мне был звонок домой, и меня вызвали в военкомат. И там начался разговор о тебе». Говорил с ним «сотрудник», который начал: «Я Вас часто видел на «Перестройке» с Юрасовым. Что Вы можете о нём сказать?» Я Серёжу чуть ни взял за грудки: «А что же ты тогда-то мне не сказал?!» - «Ты что, не понимаешь, что я не мог об этом сказать?! Я дал подписку! А спрашивал он о том, с кем ты дружишь, с кем встречаешься. Я ему сказал, что ничего плохого о тебе сказать не могу». Меня это так потрясло! Мой закадычный друг открылся мне только спустя какое-то время, когда я и думать об этом забыл.
Леонов, Самодуров, Кузин, Скубко и примкнувший к ним я создали группу «Памятник», которую потом, в связи с активностью «Памяти», переименовали в «Мемориал». Я не присутствовал на их первом заседании, когда они решили организовать эту группу. Но мне позвонил по телефону Дима Леонов и предложил войти в её состав. Я спросил: «А что это такое?» - «Ну вот на ХХII съезде партии было решение о том, что надо поставить памятник незаконно репрессированным жертвам культа личности. Там Хрущёв выступал, его поддержали делегаты, и мы будем добиваться выполнения этого решения в городе Москве. Будешь ли ты участвовать в этом?» Я говорю: «Да, я буду в этом участвовать». - «В общем, я тебя записываю в группу».
И когда я в следующие разы приходил на «Перестройку», то клубился в основном в этой группе. (У нас образовался такой междусобойчик.) Мы собирались вместе и что-то обсуждали - вырабатывали какую-то бумагу, что-то подписывали и так далее. Это - 87-й год. С 87-го года стали проходить пикеты. Первый, летом 87-го, проходил на Арбате. Я сказал: «Его всё равно разгонят и всех посадят в отделение» и не пошёл на пикет держать эти вот плакаты. - Насколько я понимаю, речь идёт о сборе подписей за создание Мемориала. - Да, подписей. Там были Дима Леонов, Самодуров, по-моему, Пономарёв. И их всех, действительно, загребли и отвели в отделение. Потом они, по-моему, получили штраф. Второй пикет был где-то на Крымском. - На Крымском валу? - Да, да, да. У ЦДХ. И повторилось то же самое. И так был несколько раз, и всё - одно и то же: «нарушение общественного порядка», штраф и так далее. Но я в этом не участвовал, ни разу не стоял вместе с ними и ни разу не забирался. Я считал, что это - бесполезное дело. Потом, когда образовался «гайд-парк» на Пушкинской, те же самые люди - Самодуров, Пономарёв, Леонов - так же стояли и собирали подписи. Но я даже тогда - когда уже никого не вязали и когда вокруг постоянно клубился народ - в этом не участвовал. Да и кого они предлагали? Шатрова, Рыбакова, Карякина. Я не хотел этих людей и в том числе поэтому не участвовал в пикетах. - Предлагали в руководство будущего «Мемориала»? - Да! Один список был за возведение самого Мемориала, а другой - с вопросом о том, кого бы люди хотели видеть в инициативной группе по его созданию. - Насколько я помню, первое место во втором списке занял Сахаров. - Да, Сахаров там был, так же как и другие деятели. Но я был против многих из них, и поэтому в сборе подписей никогда не участвовал. Бывали единичные случаи, когда мы просто раскидывали наши мемориальские листовки с вопросом: «Вы за то, чтобы во исполнение решения ХХII съезда партии был поставлен памятник?..» Например, в ЦДЛе. Просто разложим их, а кто-то возьмёт, прочитает. Кто-то возьмёт с собой. Кто-то выбросит. Или в ЦДРИ - на Неглинной, по-моему. - ЦДРИ - рядом с Неглинной, на Пушечной, - Да, значит на Пушечной. Туда мы ходили с юристом Михаилом Коваленко. Помню, я там увидел Янковского... - Олега? - Олега. ...И подошёл к нему. Он согласился: «Да, я подпишу». И подписал эту бумагу за установку памятника. Но обычно больше двух-трёх подписей за раз мы не собирали. Это - тоже 87-й год. Это был период, когда, чтобы нас не вязали, мы решили уйти с улиц и пойти по всяким таким заведениям. - А какой смысл был в раскладывании листовок? - Мы их раскладывали (допустим, в ЦДЛе или в ЦДРИ), а кто-то возьмёт и подпишет. - Что, листовка была с бланком для подписи и адресом, по которому её можно было вернуть подписанной? - Да, да, да, да, да, да, да, да. И там было написано: оставьте свою подпись, расшифруйте её, укажите номер телефона и вышлите её туда-то. Но этим я занимался только с Мишей Коваленко, который меня поддерживал. (Кроме ЦДЛ и ЦДРИ у нас с ним были ещё два или три ДК.) Когда у меня произошли обыск и выемка, я заявил об этом на своей группе. Меня поддержали, прежде всего, Юра Скубко и Витя Кузин - будущие ДСники. Они сказали: «Мы твой вопрос поставим на общем заседании клуба». И действительно, стали выступать насчёт того, как меня спасти, потому что вслед за этим может последовать мой арест. Именно эти два парня - Юра Скубко и Витя Кузин - постоянно ставили на клубе «Перестройка» вопрос обо мне, собирали подписи в мою поддержку, к кому-то даже ездили. А Коваленко, например, по этому поводу звонил Андрею Вознесенскому, который перед тем что-то вякнул в «Литературной газете» про необходимость выполнения решения ХХII съезда относительно Мемориала. Мы за это ухватились, и кто-то (по-моему, Коваленко) решил ему позвонить. - Вознесенский тогда опубликовал нашумевшую поэму «Ров», в которой говорилось о массовых безымянных захоронениях расстрелянных. Может быть, Вы это имели в виду. - Я помню только его интервью «Литгазете» в 87-м году, где он заикнулся о необходимости что-то такое поставить жертвам репрессий. Я не случайно об этом говорю, потому что вслед за этим произошли события, которые меня с ними развели. Я находился тогда в ожидании того, что меня вот-вот посадят и из-за этого даже не жил дома. Отец Юры Скубко - член Союза художников, и имел право на мастерскую. (Мастерская у него была в районе метро «Щёлковская».) - Лысенко говорил, что в районе «Динамо». - Оба его родителя были художниками. Поэтому одна мастерская у них, действительно, была на «Динамо», а вторая, запасная, на «Щёлковской». Кстати, Лысенко тоже входил в нашу группу, но он, по-моему, как и Пономарёв, присоединился к ней позже. Кто их привёл, я не знаю. Должен сказать, что они мне уже тогда не понравились. Была в них какая-то совковость. (Самодурова я тогда ещё не понял, не раскусил.) А вот в ком я никогда не сомневался, так это в Кузине, Скубко и Диме Леонове. ...Так вот, после выемки у меня записных книжек я боялся, что меня возьмут и поэтому жил по разным квартирам. Юра Скубко мне сказал: «Я тебе дам ключи от мастерской отца, и ты поживи там. Никто этого не будет знать». И дал мне ключи. Я тогда находился в таком состоянии, что мне было всё равно, и я выпивал - вплоть до того, что на фабрике «Новая заря» мы пили одеколон. А однажды мы с ребятами в клубе набрали водки, жутко напились и пошли... - В каком клубе? - В ДК «Новая заря», который находился... - А! Ну это не важно. Главное, что со своими коллегами по фабрике, а не по «Перестройке». - ...Там мы «сняли» девчонок и поехали вот на эту квартиру, которую мне предоставил Юра Скубко. - Не квартиру, а мастерскую. Имеется в виду на «Щёлковской»? - Это мастерская была как квартира. Одна комната там была открыта, а другая заперта. (Я не знал, что это - комната другого художника.) Нас было всего, по-моему, шестеро: троё парней и каждый - с девчонкой. Мы с этими девчонками решили остаться, и нам на всех не хватило места. Мы вышибли эту запертую дверь и весело и хорошо провели время. Когда утром пришёл хозяин вот этой соседней комнаты-мастерской, то он сразу понял, в чём дело. (А мы не поняли, потому что ещё проспаться не могли.) Приехала милиция и стала барабанить в дверь: «Откройте, милиция!» Что делать? Хотя это был, по-моему, третий этаж, но я всё же выпрыгнул в окно. Потом это дело стало раскручиваться. В конце концов, дело замяли, и закончилось оно для меня штрафом. Чтобы быть до конца честным, нужно было упомянуть и об этом. Да, это всё было. Да, я виноват, и всё это произошло по моей инициативе. И когда в 88-м году Горбачёв с Лигачёвым обсуждали в Политбюро возможность регистрации «Мемориала», было заявлено, что регистрировать его нельзя, потому что в этом «Мемориала» такие аморальные личности!.. Но фамилию не назвали. Юра Самодуров, который уже стал играть в нашей группе лидирующую роль (вырабатывал документы, собирал подписи и так далее), запретил мне после того случая выступать от имени группы «Памятник»/«Мемориал» и заявил, что он исключает меня из неё. Я говорю: «Так группа не зарегистрирована. Как же ты можешь меня из неё исключить?» - «Я приостанавливаю твоё членство в группе, потому что твоё имя будет нас компрометировать». И т. д. и т. п. Лысенко и Пономарёв тоже заявили, что от меня надо держаться подальше. Я уже тогда понял, что за человек Самодуров. Он мог бы пожурить, поругать. Но поступить так, как он поступил - исключить меня из несуществующей группы? (Потом он назвал это «временным приостановлением моего членства».)
А вот другие ребята ограничились порицанием. Дима Леонов: «Ну что ты натворил? Ты что, не понимаешь?». Юра Скубко: «Ну я от тебя не ожидал. Ну что это такое?» Володя Прибыловский: «Как ты себя повёл? Это нехорошо. Ты ребят подставил. Я от тебя не ожидал». Витя Кузин тоже лишь пожурил меня. Однажды меня пригласили выступить в Питере, где ещё не было «Мемориала». Я сказал: «Юра, я еду в Питер. Там будет лекция, и меня ждут». А он мне ответил: «Я запрещаю тебе выступать от нашего имени и говорить, что ты - в нашей группе. Выступай от собственного имени». Я говорю: «Я не признаю этого». После этого Юра дал направление в Питер Марине Жжёновой (дочке Жжёнова) и настроил её на то, чтобы если вдруг я заявлю о нашей группе, о «Мемориала», то меня надо сразу дезавуировать. И вышел скандал. После того, как я там выступил, встала Марина Жжёнова и говорит: «Ему запрещено выступать от имени «Мемориала» - он себя скомпрометировал. Его имя связано с такими делами...» - Не забывайте называть даты. - Пьянка, погром и разлад отношений прежде всего с Самодуровым - это сентябрь 87-го года. - А то выступление в Ленинграде? - Примерно октябрь-ноябрь 87-го года. - Прибыловский объяснил мне возникновение скандала вокруг мастерской художника тем, что Вы там выпили чужие дорогие напитки. - Ну, наверное, да. Мы взломали дверь во вторую комнату, воспользовались там чужим постельным бельём и, видимо, да, выпили напитки - какие-нибудь, наверное, вина, коньяки. Наверное, да. Вполне возможно. Ведь мы уже туда приехали пьяными. Это, действительно, всё так и было. Но когда потом Самодуров меня в этом неоднократно упрекал, я ему сказал: «Ты считаешь, что я совершил такой грех. А что ты сделал с православием? (Речь идёт о выставке «Осторожно - религия!», - АП.) Давай сейчас выставим против мусульман...» Он почему-то не хочет. Я говорю: «Если ты хочешь бороться, так иди до конца». Я хочу ещё рассказать о Самодурове, потому что это очень важно. Я уже рассказал, как мне не верили писатели. Но я столкнулся с тем, что мне не верили и Самодуров с Пономарёвым. Они не могли представить, сколько же это надо работать, чтобы столько карточек завести. Я им говорил, что когда я уходил в армию, у меня было уже около 20 тысяч карточек. И когда я им сказал, что у меня на момент обыска и изъятия было сто тысяч карточек, они мне не верили. Самодуров мне говорит: «Мы стали считать, сколько же надо работать в архиве, сколько надо переписывать, чтобы было столько карточек». Он это повторил уже в 2005 или 2006 году. И хотя у меня дома бывали Лысенко, Скубко, они всё равно не могли представить, что у меня - сто тысяч карточек. Так что обязательно надо сказать о том, что не верили мне те, и не верили мне эти. Вообще, с Самодуровым такая история, что... Это - очень тяжёлый человек. И, по-моему, не вполне в себе. Потому что он меня всячески попрекал вот этим единственным случаем, но сколько всяких таких случаев с ним было! Особенно с этой выставкой. Это, действительно, была провокация.
ПОЕЗДКИ ПО СТРАНЕ Когда произошла моя легализация, ко мне приехал председатель кооператива из Волгограда Алексей Семёнович Штраймышев и предложил стать лектором Волгоградской областной филармонии и начать читать лекции. Первая лекция (в Волгограде) состоялась, по-моему, в июле. И в течение последующих двух лет я ездил от этого кооператива «Контакт» по городам (Волгоград, Одесса, Свердловск и пошло-поехало) и читал лекции о своей работе. А в трудовой книжке у меня было написано: «Зампредседателя кооператива «Контакт»». С этими моими поездками в 88-м году связан такой факт: меня схватили КГБшники. Произошло это так. Летом 88-го года, уже после «Взгляда», в какой-то газете обо мне вышла статья. И ко мне пришёл один человек, который являлся, видимо, провокатором. Он был бывшим заключённым, но не по политической, а по уголовной статье. (У него были наколки, и я понял, что этот - тот ещё тип.) Был он из Иркутска: там сидел, там потом и осел. Я его напоил чаем, а под конец разговора о том, о сём он мне и говорит: «Знаешь ли ты, что скоро предстоит визит Горбачёва в Иркутск, где на него будет совершено покушение? И знаешь ли ты таких людей, которые могут это предотвратить?» Я ему сказал: «Идите в «органы». Я к этому не имею отношения, и даже если я буду о таком покушении знать, сам я туда всё равно не пойду. Для этого существуют соответствующие службы». - «Ты что, не понимаешь: если Горбачёва убьют, то перестройке - конец?!» Я говорю: «На это есть службы, которые не должны этого допустить. (Его же охраняют.)». Через день или два после этого разговора я полетел в Днепропетровск выступать с лекциями. Оттуда я вылетал ещё куда-то. И когда я должен был уже лететь, меня схватили в аэропорту. Я говорю им: «У меня - самолёт». - «Улетите следующим рейсом». И отвели в свою каморку в аэропорту. Спрашивают: «Вам знакома фамилия такого-то?» И называют фамилию этого мужика (который мне при знакомстве представился). Я говорю: «Нет, не знаю». - «Ну как же не знаете? Он у Вас был». Я говорю: «Откуда? Никто у меня не был». А они мне включают запись нашего с ним разговора. Из чего я сделал вывод, что, видимо, когда у меня делали выемку, то установили прослушку. - А тот разговор происходил здесь, у Вас на кухне? - Да. Я был в шоке, но говорю: «И что?» - «Значит, Вы его знаете». Я говорю: «Я его не знаю». - «Но он же к Вам приезжал». Я говорю: «Приезжал, но кто он такой, я не знаю». - «А что Вы знаете об Иркутске и так далее?» Я говорю: «Я ничего не знаю. Я впервые об этом от него услышал». - «Что Вы делали в Днепропетровске?» - «Читал лекцию. Лекция проходит через кооператив общества «Знание». Какие есть претензии?» - «Нет, претензий нет. Нас интересует только вот этот вопрос: как нам найти этого человека?» Я говорю: «Не знаю. Он координат не оставил». Разговор длился часа два и закончился, в общем, ничем. - А он действительно не оставил координат? - Я этого не помню - оставлял, не оставлял. Но даже если бы и оставил, всё равно я им бы их не дал. Как потом выяснилось, они его действительно искали и нашли. Но не скоро, потому что он потом объявился и мне звонил. Я говорю: «Зачем надо было так делать? Ты меня подставил». А он сказал, что его нашли и спрашивали обо мне. Я говорю: «А знаешь ли ты, что мне давали запись нашего разговора, из чего я сделал вывод, что у меня - прослушка?» «А ты знаешь, - он говорит, - что я спасал Горбачёва? (Иначе бы его убили.)» Горбачёв действительно был в Иркутске, но там ничего не произошло. И я до сих пор не знаю, в чём там дело. Может, он - провокатор, может ещё что. ...Я рассказал об этом Володе Прибыловскому, он решил, что это - провокация против меня и, по-моему, дал сообщение в «Экспресс-хронику». Тогда общество «Знание» хотело качать деньги, и в начале 89-го года я полетел с лекциями во Львов. По всему городу Львову висели объявления: «Общество «Знание». Лектор - выпускник (я не был выпускником, - ДЮ) Историко-архивного института. «Хроника сталинских репрессий: 1927-1953»». Якобы это было залитовано «Знанием». Но я решил: ну что им здесь слушать о репрессиях 30-х годов, когда у них была своя там боль(?). И я там рассказывал уже о сталинских репрессиях 39-40-го годов на Западной Украине, о борьбе с так называемым подпольем, о западно-украинских движениях - бандеровцах, ОУН, УПА и так далее. Был полный зал, и мне аплодировали чуть ли ни после каждой фразы. После первой лекции в Доме знаний меня вызвали к руководству и сказали: «У тебя какая тема? «Хроника сталинских репрессий». Вот об этом и рассказывай. Хорошие деньги получишь. А местный материал не трогай. Иначе ничего не будет, и ты не найдёшь в городе ни одной площадки». Вызывают доктора исторических наук, завкафедрой Львовского госуниверситета (он сейчас большой пост там занимает) Сливку Юрия Юрьевича. Он мне говорит: «Ну что же, Вы будете отрицать факт добровольного вхождения Западной Украины в состав СССР?» (Примерно так же до этого говорил мне про индустриализацию Лельчук, который три диссертации сделал на теме: «Индустриализация в СССР».) Я отказался, и так и получилось, как мне говорили: мои выступления закрыли и даже уже купленные билеты пришлось возвращать. И всё. А меня самого оттуда буквально выслали - купили мне билет на самолёт. - Я так и не понял, каковы были Ваши взаимоотношения с обществом «Знание». - Прихожу я в это «Знание» к заму его председателя Семичастному... - Имеется в виду - к тому самому. - Да. ...И он как посмотрел на мои темы и говорит: «Нет, нет, нет - всё это не то». Я говорю: «Ну и тогда я не буду от вас...» У них несколько раз был со мною такой разговор: «Уберите это, уберите то, и будете от нас ездить». Я говорю: «Нет. Будет так, как было». Но им хочется получать деньги, и они меня как бы пускают: звонят, допустим, в Днепропетровск, и говорят: «На ваше усмотрение. Мы не залитовали эту лекцию, но вы как хотите». И в Днепропетровске я выступал в лекционном зале общества «Знание». - А часть денег шла в кооператив, который это изначально организовывал? - В кооперативе я только числился, но денег не получал. Платили мне на местах, и я не знаю, что центру перепадало. А сборы были огромные. В Днепропетровске было лекций десять, и залы ломились. В Одессе - тоже лекций десять, потом в Полтаве, в Харькове... В Полтаве, кстати, КПСС опять меня запретила, и после первой же лекции меня оттуда убрали. А в Перми отказались предоставлять площадку. В Иваново и в Воронеже мне просто не заплатили. Так что период с 88-го по 91-й год прошёл у меня в бесконечных выступлениях.
ОБЩЕСТВО «МЕМОРИАЛ» Что больше всего меня потрясло в связи с созданием «Мемориала», так это так называемая подготовительная конференция, которая состоялась в Доме кино, по-моему, в сентябре 88-го года. Застрельщиками её были Союз архитекторов (секретарь Союза архитекторов Глазычев), Союз кинематографистов (кинорежиссёр Смирнов) и Союз писателей (от него был, по-моему, Бакланов). От «Литературной газеты» был зам. главного Изюмов. Глазычев с помощью Смирнова и «пробили» вот этот зал, принадлежащий Союзу кинематографистов. Им очень понравились Пономарёв и Самодуров - тем, как пишет в своих воспоминаниях Глазычев, что это - нормальные, спокойные молодые люди, с которыми можно иметь дело. В отличие от других, безумных, типа меня, Скубко, Кузина и так далее. Но там собрались и бывшие заключённые, такие, например, как Евгений Александрович Шаповал - физик, ученик Ландау. Я ему выносил из архива Верховного суда дело о его реабилитации, и из которого он узнал, что его одноделец - зав. кафедрой МГУ доктор биологических наук Борис Николаевич Вепринцев (специалист по птичкам, который голоса птиц записывал) - «секр. сотр. МГБ». Они подозревали, что он - стукач, но только из дела узнали, что он-то их в 50-м году и посадил. Так что люди там были самые разные. В президиуме, например, сидел Сахаров. Он обычно сидел, обхватив голову, и многим казалось, что он спит. На самом деле, он не спал и всё слышал. Там я крепко сцепился с Изюмовым, Глазычевым и Смирновым. Когда я в своём выступлении стал рассказывать об архиве, о Солженицыне (тогда стоял вопрос о необходимости публикации «Архипелага ГУЛАГ»; сколько же можно? ведь уже 88-й год!), выступил Изюмов и сказал: «А у нас в «Литературной газете» находятся материалы, которые свидетельствуют о работе Солженицына как секретного сотрудника». То есть обвинил его в стукачестве, доносительстве и так далее. Что тут началось?! Я полез на трибуну, Елена Цезаревна Чуковская пошла на трибуну... Я требую от Изюмова извинений за клевету, говоря, что таких материалов нет и не может быть, что это - гэбэшная заказуха и так далее. Изюмов хочет покинуть президиум. Пономарёв и Самодуров просто схватились за голову. Кое-что из этого описано у Юры Скубко. Он тогда уже состоял в ДСе и был гораздо более «левым», чем мы все. (Он уже вместе с Новодворской выступал против Горбачёва.) Он там отстаивал свою резолюцию и даже кому-то дал по морде. Обязательно надо рассказать о том, как себя там проявили Самодуров и Пономарёв. Моё отношение к ним сформировалось именно тогда, когда они извинялись за меня перед Изюмовым и Глазычевым. После этого скандала был сбор этой нашей ячейки, и там они мне всыпали по полной: «Что ты наделал?! Это - наши учредители! Мы за тебя вынуждены извиняться! Ты нам всё испортишь! Ведь нас не зарегистрируют!» Они меня стали обвинять в том, что это конференция якобы могла быть учредительной, а стала только подготовительной, и что не известно теперь, когда будет учредительная. (Учредительная состоялась в январе 89-го года в ДК МАИ.) На самом-то деле, из опубликованных сейчас документов Политбюро известно, что вопрос о регистрации «Мемориала» рассматривался там неоднократно, но каждый раз эти стариканы из Политбюро говорили: «Нет, нет, нет, нет...» И только после смерти Сахарова, когда Горбачёв пришёл с ним попрощаться, Елена Георгиевна попросила его: «Дайте команду зарегистрировать «Мемориал»». Только после этого его зарегистрировали. Так что в 88-м году у нас с ребятами произошёл некий раздрай. Но надо сказать, что никого из современных «мемориальцев» тогда там и близко не было. Ни Рогинского, ни Охотина, ни Ковалёва, - никого из тех, кто ныне там заседает. Ещё в 88-м году (это - октябрь-ноябрь) проходила Неделя совести, которая прогремела на всю страну и на которой я работал. Меня туда пригласил Вайнштейн - директор ДК МЭЛЗ, где она проходила. Он и его сотрудники предложили: «У тебя есть списки? Неси - мы их развесим». Неделя совести сделала меня действительно популярным, потому что журнал «Огонёк», который патронировал Неделю совести, и Коротич, который меня поддерживал, где-то в сентябре 88-го года опубликовали разработанную мною анкету с вопросником о репрессированных - с тем, чтобы составить к Неделе совести банк данных. Люди на неё откликнулись, и мне стали приходили пачками письма с разными сведениями, документами, фотографиями. Мы скопировали (тогда уже ксероксы стали появляться) и развесили списки, которые у меня были и оттуда, и... - Откуда? - Те, что мне удалось сохранить у Володи в Новом Иерусалиме. ...И сделали Комнату памяти. Всю эту комнату на первом этаже обклеили моими списками, которые я надыбал в архиве (точнее, их копиями). А на втором этаже сделали Стену памяти, где разместили присланные людьми материалы. И люди приходили сотнями и сотнями и давали всё новые и новые материалы и данные, которые там же размещались. (Кроме того, ко мне на дом приходило очень много писем.) Туда приходили и выступали известные люди - и Медведев, и Сахаров, и Ульянов, и Шатров. Кого там только не было! Была даже Решетовская. (Первая жена А. Солженицына,- АП.) Она жила в соседнем со мной подъезде, и я предложил ей приехать и выступить в поддержку требования вернуть гражданство Солженицыну. (Первой с ним выступила Елена Цезаревна Чуковская, опубликовавшая в 88-м году в «Книжном обозрении» статью «Вернуть гражданство Солженицыну».) Потом такие Недели совести стали проводить по всей стране. - А как Решетовская отнеслась к Вашему предложению? - Я ей сказал о том, что есть договорённость с Вайнштейном о возможности в рамках Недели совести (Недели памяти) повесить «портянку» для сбора подписей с портретом Солженицына и с требованием возвращения ему гражданства и опубликования в СССР «Архипелага ГУЛАГ»: ««Согласны ли Вы предоставить материалы и фотографии?» Она сказала: «Да». А к кому было ещё обращаться? К Борисову? Он тогда ещё не был душеприказчиком, а был безработным. Только в 89-м году Залыгин взял его к себе в «Новый мир» своим замом. Так что больше было не к кому. Только к ней. Но она согласилась. И документы дала, и сама там выступила. Всё это было придумано мною, Вайнштейном, его сотрудниками и Коротичем. И всю эту неделю я там очень активно работал. А никакого «Мемориала» ещё не было. Ни Самодуров, ни Пономарёв этим не занимались, и никого из этих граждан на Неделе совести не было. Они занимались только тем, что бегали по вот этим вот учредителям и пытались поставить перед членами-учредителями вопрос о регистрации «Мемориала». Так прошёл для меня 88-й год: легализация благодаря программе «Взгляд», разъезды по городам с лекциями... У меня было всё меньше и меньше времени заниматься тем, чем занимались крючкотворы типа Самодурова. Начал я как-то отдаляться и от Прибыловского с Харламовым, хотя до этого мы виделись чуть ли ни каждую неделю. А с «Мемориалом» получилось так, что ту работу, которую делал я, потом почему-то перехватили другие люди, которые не стояли у истоков «Мемориала». Пришли вдруг другие люди, привели других людей и пошло и поехало. Причём часть своего архива, вот эти все письма (а я получил порядка 30 тысяч писем) я передал этому «Мемориалу», и у меня не осталось ни одного письма.
Беседовал Алексей Пятковский. Октябрь-ноябрь 2006 г.
|
|||||||||||||



