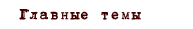
 |
|
ДЕМОКРАТ ПРИ ВЛАСТИ
ПРЕДЫСТОРИЯ В том, как начиналась моя политическая карьера, много поучительного. Я - человек своего поколения. В некотором смысле я - его «типичный представитель». До поры до времени - до 87-го года - всё у меня шло как у всех, и ничего необычного в моей жизни не было. Моя тогдашняя биография умещалась в одном абзаце: родился тогда-то, окончил институт (самый массовый - МВТУ имени Баумана) тогда-то. До определенного времени - лет до 19-20 - я был правоверным советским юношей. В партию не хотел вступать, потому что недостоин. («Туда должны вступать самые лучшие».) Словом, вся эта дребедень была для меня характерна. А потом всё как-то быстро и резко переменилось, и когда я распределился в ИВТАН, то пришёл туда уже практически диссидентом. В институте я попал в «свой» коллектив - там работали сплошь диссиденты. Даже партком состоял из людей, которые, хотя и принимали правила игры, но в глубине души думали иначе и читали Солженицына. ИВТАН был немного другим. У нас царила вольница, и атмосфера была здоровая, диссидентская. Словом, это было приятное место для работы. Директором у нас был Александр Ефимович Шкейндлин, еврей по паспорту, что являлось редким случаем, поскольку отнюдь не все евреи-академики дослуживались до поста директора института, тем более - крупного и влиятельного. Вообще, ИВТАН являлся прибежищем для тех, кого из других мест выгоняли за «пятый пункт». И кто-то всё время уезжал в Израиль, из-за чего в парткоме постоянно возникали какие-то скандалы. Во мне всегда жило чувство, что ситуация в стране ненормальная и что долго так продолжаться не может. Но Брежнев умер, пришёл Андропов, затем умер и он, а начало перемен всё откладывалось. Надежда появилась только тогда, когда пришёл Горбачёв. Хотя в период с 85-го по 87-й год, пока Горбачёв укреплял свою власть, убирая консерваторов, вся риторика его была абсолютно прежней. Перелом в общественном мнении, по крайней мере, у нас в институте, произошёл весной 87-го года. Поводом послужило то, что в начале года состоялся очередной пленум ЦК, после чего в толстых журналах начали печатать запрещённые ранее книги Замятина, Платонова, Гроссмана, статьи Попова, Шмелёва, Пияшевой. Все журналы превратились в бестселлеры. Тиражи их подскочили. Не были редкостью семьи, где выписывали по 5-7 толстых журналов. В библиотеках образовывалась очередь на прочтение журналов. В трудовых коллективах начали разыгрывать подписку на “Московские новости”. В общем, гласность, наступившая весной, резко поменяла общественные настроения интеллигенции в пользу Горбачёва. И тогда произошла следующая вещь: самые отчаянные диссиденты стали самыми ярыми приверженцами генсека Горбачёва и его политики перестройки. Метаморфозы эти произошли быстро. Помню разговор с самым оголтелым нашим диссидентом. (Сам я к числу отчаянных не относился. Максимум, что мы могли себе позволить, это сказать: “Сталин был гад. Зачем он убил Бухарина, Троцкого?”, - мол, те были хорошими. А этот диссидент мог заявить: «Все они одним миром мазаны».) В один прекрасный день он и говорит: «Горбачёв дело делает, ему надо помогать». А лозунги у Горбачёва были такие: “Начни перестройку с себя”, ”Перестраивайся на рабочем месте» и так далее. Я воспринял их буквально и начал перестройку с себя, со своего рабочего места. НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ Часто бывало так, что политическая карьера многих персонажей начиналась с одной яркой речи. У Руцкого это - съезд весной 91-го года, фракция «Коммунисты за демократию». После этого - основатель нового движения, которого Ельцин выбирает в вице-президенты. Гена Бурбулис на самом первом съезде нардепов СССР выдвинул Ельцина в председатели Верховного Совета, был отмечен и стал потом вторым человеком в государстве. Казанник, который снял свою кандидатуру в пользу Ельцина. Афанасьев, который произнёс фразу об “агрессивно-послушном большинстве”. Моя карьера тоже началась с выступления на партсобрании. (Я не состоял в партии, но то собрание было открытым.) В институте я ведал народной дружиной (кто-то занимался базами, колхозами, а я - дружиной) - вёл учет выходов на дежурство, равномерно распределял нагрузку на отделы, давал отгулы - и на партсобрание меня пригласили именно для того, чтобы я выступил по поводу дружин. Для меня начать перестройку с себя означало сказать правду. И я решил: скажу всё, как есть - что дружина приносит только вред, что она никому не нужна, что в ней царит показуха, что дружинники приходят в опорный пункт, отмечаются, а затем идут куда угодно - в кино или выпивать. А потом подписывают наряд и получают отгул. И я решил назвал вещи своими именами. К выступлению я готовился: продумал, что говорить (мол, за те деньги, которыми выражается ущерб от деятельности дружинников, можно нанять трёх участковых), какие фразы при этом использовать. И хотя Ельцин тогда уже являлся первым секретарем МГК, и ситуация в Москве была более продвинутой, чем в других местах, но на партсобраниях люди всё ещё продолжали играть в старые игры, и многие вещи своими именами не называли. А я выступил так, как делал это у себя в отделе, и это произвело ошеломительный эффект. Когда я выступал, было слышно, как мухи ползают по стенкам. Все слушали меня, раскрыв рот, а затем раздались аплодисменты. В одночасье я стал знаменит, - главарь перестройки! Отношение ко мне изменилось: стали подходить незнакомые люди, пожимать руки, говорить комплименты. Партком сначала испугался, но потом понял, что я не сказал ничего такого, чего бы все не знали. КУРС - НА МОССОВЕТ В мае 87-го года я выступил на том собрании в институте, а в июне выбирали Моссовет. (Выборы в Верховный Совет проводились раз в пять лет - зимой, а выборы в местные советы - раз в два с половиной года - то одновременно с первыми зимой, то отдельно от них - летом.) Прежде Моссовет насчитывал тысячу депутатов, но Ельцин сократил число депутатов аж до восьмисот. При этом в каждом органе власти надо было соблюсти все пропорции, существовавшие в обществе: должен был быть определённый процент мужчин, женщин, рабочих, интеллигентов, молодых и старых, членов партии и беспартийных. Выдвижение кандидатов проходило по предприятиям. Наш институт был крупным, и поэтому ему полагался свой депутат Моссовета. Но разнарядка к нам пришла на молодую (до тридцати лет) беспартийную женщину-комсомолку из рабочих. Однако парком наш был боевой, и благодаря этому институт дерзко отверг присланную разнарядку, согласившись только на требование выдвинуть кандидатом беспартийного и молодого: «Мы дадим вам того, кого считаем нужным - не девочку, а мальчика». На расширенном заседании ученого совета было проведено альтернативное выдвижение. Кроме меня в качестве кандидата выдвинули ещё одного парня из нашего отдел, который (как я - с дружиной) боролся с плодоовощными базами и на этом поприще снискал себе известность. Он, как и я, тоже был молодой и беспартийный. Мы показались, выступили. Прошло обсуждение кандидатур. Состоялось голосование. (Голосовали члены ученого Совета и, кажется, ещё кто-то.) Я победил и стал кандидатом в депутаты Моссовета, а райком партии был вынужден смириться с тем, что ему дали мальчика, а не девочку. Моя фотография была напечатана в официальных листовках. В день выборов за меня проголосовали 99,9 процентов избирателей. Я всё это воспринял серьёзно и с наукой постепенно расстался. (Политика меня начала увлекать всё больше.) В МОССОВЕТЕ Через какое-то время состоялась первая сессия - установочная, а в конце лета - первая рабочая сессия. На ней и произошло то знаменательное событие, которое я считаю своим самым мужественным поступком - за всю жизнь. Дело было так. Большой зал Моссовета. В президиуме - Сайкин, в первом ряду - Ельцин (отсутствие почётного президиума - одно из новшеств Ельцина), в зале стоят микрофоны. (Символом перестройки были микрофоны в зале и отсутствие президиума.) Но повестка была самая что ни на есть старая. Первый вопрос - об «углублении и расширении» товаров народного потребления путём внедрения многосменной работы предприятий (главный лозунг Горбачёва). Был доклад, прения, проект решения. Проект на тридцати страницах на руках у депутатов -примерно такой же многословный, как и доклад: углубить и тра-та-та расширить, усилить, тра-та-та... Я пришёл перестраиваться: сидел, читал постановление. Сайкин спрашивает: кто за то, чтобы принять за основу? В зале 800 человек во главе с членом Политбюро Ельциным, но я всё-таки решился и совершил самый мужественный в жизни поступок (всё остальное затем было легче). С замиранием сердца и с душой, ушедшей в пятки, я после вопроса Сайкина поднимаю руку. (Решиться выступить было жутко нелегко.) Он не замечает. Наконец, в зале раздаётся шум - мою руку заметили. Я выхожу к микрофону и говорю: «Идёт перестройка, кругом всё меняется, а мы что принимаем - «расширить»? Это же не канал, чтобы его расширять». И какие-то такие вещи В зале сначала тишина, затем ропот. Все смотрят на Сайкина и на Ельцина. Но Сайкин быстро сориентировался: «Вот есть предложение, - говорит, - принять за основу. Кто за?» Восемьсот - за, один я - против. Проехали. «Какие будут поправки?» (Поправки по сценарию полагались.) Вышли какие-то женщины, зачитали поправки: вместо «расширить» - «углубить», а вместо «углубить» - «расширить». И какой-то пункт, который был заранее роздан, вносится в текст. Затем Сайкин спрашивает: «Кто за то, чтобы принять решение полностью?» Один парень поднимает руку, тоже выходит к микрофону и говорит: «Вот тут человек сказал, что постановление пустое, а мы в него ещё хуже поправки вносим». Сайкин хотел поступить так же, как в прошлый раз - поставить на голосование. Но тут случилась интересная вещь. Не прося предоставить ему слова, с места поднимается Ельцин, медленно идёт к сцене, выходит к микрофону и говорит: «Мне кажется, что мы тут чего-то недоработали. Постановление, действительно, надо подработать». Сайкин сразу же: «Есть предложение доработать и Исполкому принять». Опять все проголосовали «за» - на этот раз за то, чтобы не принимать никакого постановления. Так я впервые получил поддержку со стороны Ельцин. (Он этого, в отличие от меня, конечно, не помнит.) А с тем парнем и ещё двумя поддержавшими нас женщинами мы стали подходить друг к другу знакомиться и сразу скучковались, сгруппировались. (Оказалось, что кто-то из них не первый раз был избран в Моссовет.) Сессия прошла, и в газетах должен был быть опубликован отчёт: сначала - короткая стандартная информация, а ещё через день - полная стенограмма. Я с нетерпением жду стенограммы: ведь произошло из ряда вон выходящее событие, о котором граждане должны узнать. Я и на работе уже рассказал об этом, и там все ждут публикации вместе со мной. Вдруг кто-то мне позвонил и сказал, что в стенограмме ничего про меня нет. Тогда меня стали науськивать: мол, гласность, поэтому требуй. Я позвонил в «Московскую правду» и сказал, что я - депутат и у меня есть вопросы. Выпускающим был правая рука Полторанина Валентин Логунов, впоследствии - известная личность, депутат СССР. Он предложил приехать в редакцию. Я поехал. Сидит Логунов с воспаленными глазами. Принял меня тепло, ласково и с большой симпатией. Чувствуется, что меня полностью поддерживает. (Он был на сессии и всё видел.) Начинаем разговаривать. Я ему излагаю, в чём дело. Он отвечает: «Тут скандал дикий, - ты себе не представляешь. Конечно, мы подготовили полную стенограмму, хотели её публиковать, но из ЦК заставляют всё выкинуть». По телефону при мне с кем-то ругался. Но в конце концов его подмяли, и я уехал ни с чем. На следующий день я увидел эту стенограмму в газете - совершенно приглаженную. Как будто бы ничего не было - ни голосований, ни моего выступления, ни постановления. А ещё через два дня вышел номер еженедельника “Московские новости”. И там в рассказе о сессии Моссовета я впервые увидел свою фамилию: при обсуждении вопроса депутат Мурашёв выступил с критикой проекта, и сессия проголосовала: 799 «за» и один «против». В Моссовете я попросился в комиссию, которая имела длинное название - что-то вроде по перестройке управления экономикой. Занималась как раз многосменкой на предприятиях, кооперативами и прочим. Мне в ней было очень интересно. С большим числом кооператоров, впоследствии крупных бизнесменов, я познакомился как раз в 87-м году. А закончился 87-й год тем, что Ельцина сняли с должности. Ельцинское выступление на пленуме ЦК было примечательно тем, что его не публиковали и никто его не читал, но ходили легенды, что в нём Борис Николаевич обвинял Раису Максимовну. Ельцину сочувствовали. Мною же владело двоякое чувство, потому что после пленума, на котором случилось это выступление Ельцина, я как депутат Моссовета (не то 6-го, не то 7-го числа) присутствовал на собрание партхозактива в Большом театре, где, между прочим, выступал и Ельцин. Уже все знали, что с ним случилось, и я, направляясь в Большой театр, думал, что там последует какое-то развитие событий. Но я оказался глубоко разочарован: Ельцин являлся главным докладчиком и прочитал речь о Великой октябрьской революции, которая была абсолютно стандартной и традиционной. После него выступила Зыкина, ещё какие-то люди. Мне казалось, что Ельцин должен был сказать что-то другое. Он выступил верноподданно, его речь была настолько противной и ортодоксальной, как будто никакой перестройки и не было. Вроде бы сказал, а потом... Но через пару дней его всё равно сняли. И без Ельцина всё в Москве покатилось назад. Весной 88-го года Горбачев объявил о том, что пройдет партконференция (которые не проводились с 27-го года) и обсудит изменения в политической системе страны. Московская интеллигенция была взбудоражена. (Это было время, когда Горбачев являлся кумиром и героем всех людей, мало-мальски интересующихся политикой.) Летом перед конференцией, когда уже были избраны делегаты, в Москве состоялся первый официально разрешенный властями митинг. О митинге я узнал их расклеенных объявлений. Состоялся он воскресным утром около дворца спорта «Динамо» на улице Лавочкина, рядом с которым я тогда жил. Народу на митинг пришло немного, а половину присутствовавших составляли иностранные журналисты. Вёл его Самодуров. На митинге произносили речи в духе МН и ждали делегатов партконференции (Карякина и Афанасьева, которые приехали позже), чтобы вручить им подписи, собранные в поддержку чего-то - может быть, реабилитации политзаключённых. Пока шёл митинг, рядом со мной стоял какой-то старичок. Сначала он спросил у меня что-то, потом я - у него. Вдруг Самодуров говорит: «С нами находится совесть нации великий Андрей Сахаров». Вижу: журналисты с техникой оборачиваются ко мне, все расступаются, и на меня направляют свет телекамер. Оказалось, что старичок этот - Сахаров, и камеры направляли не на меня, а на него. После этого он пошёл выступать. (Спустя год я напомнил ему об этом эпизоде, но он его уже не вспомнил.) Потом была партконференция, которая приняла историческое решение об изменении политической системы: о создании съезда народных депутатов и о трех корзинах депутатов, избираемых от субъектов федерации, территориальных округов и от общественных организаций (по 750 человек). В ноябре это решение было утверждено сессией Верховного Совета. В ноябре, накануне сессии Верховного Совета, прошла и сессия Моссовета, которая должна была одобрить эти три корзины. Я получил от своих друзей по ИВТАНу наказ - голосовать против недемократичного избрания от общественных организаций. (К тому времени демократическая пресса уже охотно публиковала голоса против выборов от общественных организаций.) Хотя в Моссовете оппозиция у нас сложилась и слабенькая (из 6 человек), но мы себе уже многое позволяли. И на сессии мы устроили дискуссию, в которую втянули всех. В итоге голосов «против» набралось уже 32, и ещё 14 человек воздержались. Это была наша большая победа, о которой написали в газетах. Пусть Верховный Совет и одобрил выборы по схеме Горбачева, но я был героем. А в институте всем стало ясно, что благодаря моей активной позиции мне предстоит идти на этот съезд. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР ...Когда началось выдвижение кандидатов в народные депутаты СССР, у нас состоялось собрание отдела, на котором меня и выдвинули. Накануне Нового года (30 декабря) состоялось собрание трудового коллектива, на котором это выдвижение было поддержано. Оба выдвижения были альтернативными. Например, на втором из собраний сначала было выдвинуто как минимум четверо претендентов - директор, замдиректора, я, мой друг Валера Каганов, и, может быть, ещё кто-то. Затем директор и зам свои кандидатуру сняли, и нас осталось не то двое, не то трое. Когда мы с Валерой обсудили создавшуюся ситуацию, то договорились, что он не снимет свою кандидатуру, чтобы выборы оказались альтернативными. И когда он выступал, то агитировал за меня, сказав, что не снимает свою кандидатуру, чтобы выборы остались альтернативными. После таких его слов все, конечно, проголосовали за меня. (Он являлся завотделом и пользовался огромной любовью и авторитетом.) Так я стал единственным официальным претендентом в кандидаты. Следующим ключевым событием стало окружное собрание, в котором принимали участие 12 претендентов. (На собрании каждый из кандидатов выступал со своей платформой, а собрание отфильтровывало «несолидных» претендентов.) В нашем округе баллотировался, в частности, Василий Селюнин, который являлся тогда одним из лидеров общественного мнения и был той мишенью, против которой работал райком. В нашем округе, кстати, был выдвинут (32-я трудовыми коллективами) и секретарь райкома. Меня выдвинул только ИВТАН, всех остальных претендентов - тоже по одному коллективу. Одна половина участников собрания состояла из представителей всех трудовых коллективов округа, а вторая половина - из представителей коллективов, выдвинувших своих кандидатов. Последних насчитывалось 40, из них 32 - сырцовские. То есть на их стороне имелся явный численный перевес. Мы - 10 человек от нашего института - с самого начала отчётливо представляли себе, что выиграть невозможно. Но затем у нас появился хитроумный план, как можно выиграть на этом собрании: до собрания нам надо закамуфлироваться, чтобы никто не воспринимал нас как потенциальных врагов, а на самом собрании выступить с яркой речью. Нашли мы и тему для выступления (на первый взгляд, безобидную, но для мало-мальски умного человека очень красноречивую) - против монополизма и за многопартийность. («Нет монополизму - политическому, идеологическому, экономическому».) Это была бомба. По нынешним временам это выглядит смешно, но тогда это расценивалось как очень рискованный шаг. Многопартийность тогда была табу. Просто сказать: “Долой КПСС!” и то было нельзя. Можно было говорить о чём угодно - о перестройке, гласности, но не о многопартийности. Говорили лишь о многообразии форм хозяйствования. (Про частную собственность я уже не говорю - это было бы слишком.) Кстати говоря, Ельцин заикнулся о необходимости обсуждения достоинств многопартийности много позже меня. При этом текст своего выступления надо было на собрании распространить, сдав его за неделю до того в избирательную комиссию. Мы этого не сделали, потому что такую платформу на собрание бы не пропустили. К нам приставали с ножом к горлу, но мы водили всех за нос, ссылаясь на то, что текст ещё не готов, не напечатан и так далее. Своими силами мы речь размножили и привезли утром прямо на собрание. Когда комиссия ее увидела, она просто впала в ступор. Она поняла, кто главный смутьян. Кроме претендента на собрании должно было выступить ещё и его доверенное лицо. Мы решили, что меня должна рекомендовать Юлия Тихоненко, являвшаяся председателем трудового коллектива. Она была начальником множительного отдела, заведовала ксерксами и была необыкновенной женщиной - душевной, обаятельной. К своему выступлению она готовилась и выступила гениально, явив образец ораторского искусства. Я тоже выучил своё выступление наизусть - с жестами, якобы неожиданными находками, цитатами и прочими эффектами (так артист учит свою роль) и на том собрании произнес свою лучшую в жизни речь. У меня получился даже экспромт: когда произошло нарушение процедуры, то я выступил защитником демократической процедуры. Получилось к месту и очень эффектно - этакая бесхитростная наивность человека из народа, который, однако, не вторгается в святая святых. Для большинства это могло показаться и смелым, и в то же время безобидным. Голосование было тайным. В бюллетень вносились фамилии всех двенадцати кандидатов, и голосовать можно было за нескольких из них. Официальными кандидатами в депутаты становился те, кто получал более 50 процентов голосов. Подсчёт голосов проходил ночью. Наступило уже двенадцать часов, однако никто не расходится - всем было интересно, что будет. Когда объявили результаты, оказалось, что наши расчёты подтвердились, и Сырцов прошёл в кандидаты. Однако первым стал хозяйственник - директор какой-то фирмы. Второе место занял молодой рабочий. (На собрании он ярко и эмоционально выступил на экологические темы, и нам сразу стало ясно, что это - сильный соперник.) Я же стал последним из числа тех, кто набрал больше 50 процентов. (Я чуть-чуть перевалили за этот рубеж..) А всего нас таких оказалось четверо. Надо сказать, что в моём успехе сыграло свою роль и то, что в собрании участвовала суперзвезда - Фёдоров со своей “Микрохирургией глаза”. Он шёл от партийной сотни, но если бы баллотировался по округу, то ни у кого бы не было шансов. (Он был безумно популярен.) В перерыве вокруг него стояла толпа, с которой он разговаривал. Как мне рассказали, в кулуарах он обо мне отозвался примерно так: «Вот выступил молодой парень, очень всё толково сказал», и вроде бы эта поддержка в кулуарах всё и решила. Очень может быть. А Селюнин выступил неудачно - занудно, к выступлению не подготовившись. Он никакого впечатления не произвел, и его провалили. Из примечательных персонажей, которые баллотировались вместе с нами, следует упомянуть также Виктора Ивановича Корчагина, являвшегося тогда начинающим кооператором. Он произнес резкую речь, смысл которой заключался в том, что лучшим является то правительство, которое не мешает гражданам и которого не видно. В последующие годы он стал лидером какого-то русского национального движения - очень экстремистского, антисемитского. Мы понимали, что шансов у нас не очень много из-за состава участников собрания и из-за давления райкома, но всё-таки надеялись выиграть, так что на всякий случай я велел своим родителям накрыть стол. Когда мы выиграли, то поехали ко мне домой и там до утра праздновали. Это был очень трогательный момент. Рядом со мной тогда находились все мои близкие друзья, с которыми меня начиная с 87-го года объединяла вера в Горбачёва. Для меня наступил праздник. Было очевидно, что главный рубеж мы уже преодолели. Мы понимали, что состав зала на прошедшем собрании не являлся репрезентативным, и раз мы выиграли на нём, то и выиграть выборы для нас более чем вероятно. При этом мы твердили себе, что расслабляться нельзя, что райком ещё не одну свинью нам подсунет. То есть ждали всего, чего угодно. МОЯ ПЕРВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ После того, как я стал кандидатом, мы создали мой избирательный штаб, который возглавил Седых-Бондаренко. (Позже он сбрендил, скатился в противоположный лагерь и стал как бы вторым Челноковым. Он представлялся мне человеком честным, порядочным. На самом деле он страдал таким гипертрофированным правдолюбием, при котором человек воспринимает как истину в последней инстанции только собственную точку зрения, а доводы всех остальные кажутся ему неправильными и даже зловредными. И где-то он перешёл грань здравого смысла - ведь нельзя же считать, что ты всегда прав - и в 91-м году стал одним из зачинщиков голодовок депутатов Моссовета.) Надо сказать, что в ходе компании мы, во-первых, засветили идею многопартийности, которая в начале 89-го года было табу. (Об этом тогда газеты ещё не могли писать.) Во-вторых, вместо гласности мы заявили идею свободы слова. (Мы заявили, что гласность - это суррогат, полумера.) Третий наш пункт - рыночная экономика. Славненько, но и крамольно. Тогда избирательная кампания проводилась попроще, чем сейчас. Проходили какие-то общие теледебаты. В газетах было выделено место для публикации сведений о каждом кандидате. (Нам, кажется, досталась «Вечерка».) Кроме того, в нашем распоряжении находилась типография ИВТАНа, где мы печатали листовки. Наконец, имелись ещё плакаты, которые можно было вешать на каждый угол. Когда готовили мои предвыборные плакаты, мы использовали особый ход: для плаката я должен был сняться официально, но мы решили, что я сфотографируюсь без галстука. И эта маленькая деталь сразу выделила меня из рядов кандидатов нерушимого блока. Потом, когда мы увидели плакат, то сами изумлялись тому, насколько она бросалось в глаза, - я выглядел как человек из толпы. Оставались ещё встречи с избирателями, являвшиеся единственным реальным каналом влияния на электорат. Никогда во время последующих кампаний я столько не встречался с народом, как тогда. На протяжении месяца- полутора у меня проходили от одной до трех встреч в день (без выходных). Я объехал все ЖЭКи, фабрики и заводы. Встречали меня очень доброжелательно и заинтересовано. Я чувствовал огромную поддержку. Со временем у меня получилась "заезженная пластинка", и те, кто со мной ездил на эти встречи, через пару дней уже могли повторить мою речь наизусть без запинки. Свою речь я отрепетировал, как актёр - свою лучшую роль. Сказать по большому счёту мне было нечего, но красивый текст с цитатами и заготовками для импровизаций у меня сложился. Потом я говорил с помощницей Черниченко, и она уверяла меня, что тот за всю избирательную кампанию ни разу не повторился. Каждый раз это была импровизация на новую тему, интересная даже для неё. У меня же всё происходило ровно наоборот: я талдычил одно и то же. Но это был хороший текст, хорошая роль, и воспринимались они хорошо, - публика-то каждый раз была новая. Правда, одна женщина ходил на все мои встречи, и я даже стал её узнавать. Потом она стала моим доверенным лицом, потом - помощницей. Все годы мы вели вместе с ней приёмы, и она приняла со мной не одну тысячу посетителей. И ещё с одной стороны я неожиданно получил большую поддержку. Однажды мы вдруг обнаружили, что все бутырские улицы обклеены натюканными на пишущей машинке самодеятельными текстами в мою пользу - грамотно составленными и потрясающе убедительными. Подпись под ними стояла: полковник в отставке такой-то. Мы были потрясены. Оказалось, что их печатал один отставной полковник, живший рядом с Бутыркой. (Сейчас он, кстати говоря, стал депутатом Мосдумы.) Я думаю, его листовки принесли нам очень много голосов. Ближе к концу кампании, когда мы уже почувствовали, что перевес - на нашей стороне, вдруг пошли слухи, что меня то ли снимают с гонки, то ли аннулируют мою регистрацию. Кроме того, из обкома партии стали сильно давить на наш партком. (Секретарь райкома тоже был кандидатом и не считал возможным на меня давить, но от Зайкова давили.) В связи с этим в ИВТАНе в мою защиту состоялось собрание трудового коллектива, какого никогда ещё не было - конференц-зал был забит до отказа, фойе перед залом тоже было забито. (На это собрание пришли все.) Увидев всё это, какой-то обкомовский деятель, который приехал туда, просто ретировался. Потом между кандидатами состоялись дебаты, которые все были показаны по телевидению. (Главные из них - между Ельциным и Браковым.) Дебаты проводились в алфавитном порядке, и до нашего Тимирязевского округа очередь дошла в самом конце - практически перед самым днём голосования. Мы понимали значение Ельцина, сознавали, что он - лидер, и хотели с ним познакомиться. Никаких ходов к нему самому у нас не было, однако подруга жены Каганова откуда-то знала Наину Иосифовну. С помощью этого причудливого канала связи мы узнали фамилию доверенного лица Ельцина - Музыкантского, созвонились с ним и добились приёма. Мы приехали к Ельцину, познакомились с ним и очень кратко переговорили, - в общем, были формально ему представлены. При этом более важным оказалось то, что мы поговорили с Музыкантским. Тогда как раз велась кампания против Ельцина (что-то вроде травли): какой-то рабочий Тихомиров выступил в прессе с письмом против него, а Полторанина выгнали с работы за его связь с Ельциным. Станкевич (один из лидеров Московского народного фронта) в ту пору написал какой-то протест (телеграмму в ЦК КПСС) в поддержку Ельцина, и под этим письмом собирались подписи кандидатов в депутаты. Этот текст находился у Музыкантского. Под ним уже стояло около десятка подписей. Когда мы увидели эту телеграмму, то сразу оценили её значение: мы поняли, что уже формируется партия защитников Ельцина. - «Не хотите ли подписать?» Мы сказали, что не только подпишем, но и возьмём подписи у других кандидатов - Крайко (он после перешёл в оппозицию), Гдляна, Андреева, а через день во время теледебатов я в прямом эфире зачитаю их фамилии, чтобы москвичи знали, за кого нужно голосовать. Во время проведения теледебатов всё поначалу шло гладко и спокойно: выступали кандидаты, поступали вопросы телезрителей. В ходе моего выступления телеведущая ждала от меня чего угодно (все знали мою программу и представляли себе, о чём я могу говорить), но только не того, что я сделал, вставил в своё выступление эту телеграмму и зачитав в камеру список тех, кто защищает Ельцина. Когда я читал подписи, телефон у неё на столике уже начал трезвонить, и она задавала свои вопросы с перекошенным лицом. Это была бомба! Все мои были в полном восторге. Когда дебаты закончились, меня бросились поздравлять. (Весь персонал студии был на нашей стороне.) Потом девушки из Останкина нам рассказали, что плёнку с моим выступлением изъяли люди в штатском. Моя мама во время моего выступления чуть не упала в обморок и всё оставшееся время проволновалась: доеду ли я до дома или меня возьмут ещё в пути. Для меня всё это обернулось тем, что я в одну ночь стал известен в городском масштабе и на следующее утро проснулся знаменитым. (Был никем, а стал всем.) Когда я ехал в автобусе на работу, меня уже узнавали, ко мне подходили, жали руки. Москва была обклеена листками "Они поддержали Ельцина" - и списком, зачитанным мною в эфире. Список переписывался от руки. Он был как ориентир для избирателей - «партия Ельцина». Мы к нему прицепились, и на его имени в каком-то смысле и въехали на съезд. Никто этого не отрицает. Но Ельцин был героем и без нашей телеграммы, поскольку порвал круговую поруку страха и за это пострадал. Вот Руцкой [в 1991 г.] выступил - и только карьеру сделал. А Ельцин пострадал. Я тоже не страдал. А вот Ельцин доказал свою искренность тем, что находился в опале, на которую пошёл сознательно. И поэтому он пользовался такой большой любовью и доверием людей. У нас было чувство, что мы выигрываем (особенно после дебатов), но нас беспокоила возможность фальсификаций, и поэтому на участках у нас были свои наблюдатели. В связи с этим в день голосования я, отупев от всего и устав, сидел дома, никуда не выходил и ждал решения своей участи. Я не спал, когда часа в четыре ночи мне позвонил Каганов и сказал дрожащим голосом: «Аркадий, голубчик, мы победили!» В первом же туре - 54 процента, остальные вместе взятые - 22. (На самом деле, другие участники этих выборов получили 15,07, 10,08 и 12, 76% голосов, - АП.) Разгромная победа! После того, как в четыре часа Валера позвонил и сказал, что меня избрали, я забылся тяжелым сном. Но с шести мой телефон трезвонил уже беспрерывно. Я поднимал трубку, принимал поздравления, клал трубку и пытался опять заснуть. Но телефон звонил снова и снова. Всю первую половину дня я не мог даже поесть - мне всё время звонили знакомые и полузнакомые люди. С той ночи моя жизнь круто изменилась. Меня сразу же пригласили во «Взгляд» (это была программа номер один по популярности), в прямой эфир. Для меня началась другая жизнь. Привыкнуть ко всему этому было трудно. Такие события и такие чувства второй раз не повторяются. В Восточной Европе таким рубежом была Берлинская стена, которая могла быть снесена только один раз. (Немцы никогда не забудут разрушение Берлинской стены, потому что в их жизни уже не будет более высокого и восторженного момента.) Или бархатная революция в Чехословакия. В нашем случае это был не столько 89-й год, сколько 91-й - путч. Но первые свободные выборы тоже изменили судьбы страны и людей. А мою - так просто перевернули. Моя жизнь оказалась расколота на настолько разные части, как будто их прожили два разных человека. Выиграв выборы в первом же туре, я как избранный депутат и народный любимец стал ездить уже по чужим митингам и агитировать за моих товарищей - Станкевича, Заславского... Надо сказать, что там, где кандидатов было два-три, всё решалось в первом же туре. А там, где их было побольше, приходилось устраивать второй тур, как, например, в округах, где баллотировались Станкевич, Черниченко... Список сыграл свою роль. Мы друг друга знали, перезванивались, мы стали уже группой. Через две недели должен был состояться второй тур, и надо было совершать какие-то действия. А я был депутатом Моссовета, и у меня имелась ксива, по которой я мог заходить куда угодно. Надо сказать, что мы были далеки от неформального движения. (С Московским народным фронтом и диссидентами я познакомился, лишь став депутатом, а до того никого из них не знал.) Но перед вторым туром мне стали звонить из Московского народного фронта (Боксер, Шнейдер, Кригер, Пономарев), одним из лидеров которого являлся Станкевич, а также из Клуба [избирателей] Академии наук. (Они стали затем ядром «ДемРоссии».) Меня приглашали на митинг в поддержку Станкевича. Шёл снег, было холодно, играли организованные властями баянисты (Сергей всегда пользовался поддержкой властей). Замороженный Станкевич пытался говорить. Я тогда увидел его в первый раз. Он мне показался на голову выше и грамотней остальных. Так и было на самом деле. Ведь он являлся профессиональным американистом, который побывал в США. И когда он выступал по телевизору, это производило совсем другое впечатление, чем моя «пластинка». Чувствовалось, что он много чего знает. Потом был митинг в поддержку Черниченко. Это - звезда, золотое перо, страстные и сочные тексты, публикации в "Новом мире", телевизионные выступления. Я выступить в поддержку Черниченко постеснялся. Ведь его приехали поддерживать такие люди, как Афанасьев, Карякин, Рязанов, которых вся страна знала. Но меня люди тоже узнавали, хорошо воспринимали, аплодировали. Оказалось, что я в политике уже стал своим. В конце концов все те, кто подписал телеграмму в защиту Ельцина, были избраны депутатами. (Все, кроме одной женщины [Ксении Разумовской], соперником которой являлся Рой Медведев, отказавшийся подписать телеграмму. Но он победил благодаря своей былой диссидентской славе.) Эти московские депутаты составили затем ядро Московского клуба, ставшего ядром МДГ. Конечно, в регионах тогда - 26 марта 89-го года - выборы были не такие свободные, как в Москве, где от 25 округов прошли только двое традиционных кандидата - Скоков (благодаря тому, что к выборам в его округе не допустили Коротича) и Самсонов (директор Первого часового завода). А больше представителей номенклатуры не было. (А. Мурашёв ошибается; в Москве были избраны, например, гендиректор производственного объединения «Машиностроительный завод «Молния»» Н. Миронов, замгендиректора безымянного (секретного?) НПО А. Казамаров, образцовый мастер-бригадир Московского завода художественных часов Н. Глазков, - АП.) СОЗДАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ МДГ начиналась таким образом. Журналист "Известий" Вячеслав Щепоткин организовал с вновь избранными депутатами «круглый стол», на который я не попал и материалы которого опубликованы не были. В ходе него депутаты решили: ЦК готовит съезд, и нам тоже надо готовиться - предложить свою повестку дня, темы для обсуждения. Договорились встретиться в институте у Федорова. Туда я уже поехал. Прибыло десятка четыре депутатов, в том числе весь будущий костяк МДГ. Очень активны был Лубенченко (один из немногих профессиональных юристов), Попов, Станкевич. Состоялась сумбурное обсуждение. Гдлян говорил о коррупции, Лубенченко - о регламенте, Федоров - о том, что всё надо отдать кооперативам. Решили встречаться регулярно. Кто-то взял на себя труд договориться об этом с московскими властями, которые и выделили нам помещение на Трубной. Там мы, разделив между собой задачи, встречались только в определенное время, поскольку люди все были занятые: Бочаров руководил комбинатом, Афанасьев - своим институтом, Яковлев - выпускал газету. (Они от своих дел не отошли.) Один я ездил на Трубную регулярно, как на работу, поскольку в ИВТАНе делать мне было особо нечего. А душой этого дела и его руководителем стал ГХ (Г. Х. Попов, - АП), которому все уступали пальму первенства. У меня тогда было такое чувство, что все знали что-то такое, чего я не знаю. Моя гипотеза состояла в том, что Горбачёв затеял весь это съезд как раз для того, чтобы нас избрали. Он намерен на нас опираться, он втайне нас поддерживает, хотя открыто этого делать и не может. (Я абсолютно был тогда убежден в том, что он и Ельцина поддерживает, и нас всех.) Тем более, что говорили, будто у них с ГХ старые связи и будто ГХ на самом верху поручено нас пасти. Это поручение будто бы как раз и состояло в его лидерской роли, праве давать всем задания и всем руководить, что никем из нас не оспаривались. Тогда же в Моссовете состоялось первое собрание депутатов, избранных от Москвы (в том числе и по квоте общественных организаций), в котором участвовали Ельцин, одномандатники и двести человек от общественных организаций. Народу было много - КПСС, ВЛКСМ, профсоюзы. Мы - те, кто собирался у Федорова - сели вместе. (Но на первом съезде все были рассажены по региональным группам.) Появился Горбачёв, которого я тогда увидел впервые. Конечно, тогда я считал себя горбачёвцем. Это сейчас он потускнел, а тогда был в расцвете, заметно отличаясь от других партийцев. На собрании произошёл скандал, связанный с Гдляном, который попросил слова. (Его к тому времени уже отстранили от работы.) Когда ему слово дали, он закатил речь на полчаса, из которой ничего нельзя было понять. Всё сводилось к тому, что - коррупция. «У нас материалы», - говорил он. В ответ на него обрушились партийные деятели - Пуго и другие. Гдлян стал отвечать. Что интересно: когда все стали расходиться и Горбачёв пошёл по своему обыкновению «в народ», то с ГХ они встретились как близкие друзья, даже обнялись. Это подтверждало мою теорию о том, что ГХ - агент Горбачёва, засланный казачок. Постепенно у нас появилось видение того, каким должен быть съезд - какая должна быть повестка, какой регламент, что сначала надо обсуждать, а уже потом - выбирать. Мы сформулировали эти предложения. Но как их внести, как узнать, кто готовит съезд? Мы стали стучаться во все двери и говорить - нас пятьдесят депутатов, у нас имеются предложения. Нам организовали встречу с заместителем председателя Верховного Совета (поправка в Конституцию насчёт такой должности была уже внесена) Анатолием Лукьяновым, который нас и принял. Мы принесли ему наши предложения, Небольшое отступление. Мы были уверены, что Лукьянов - правая рука Горбачёва, его ближайший соратник. То же самое мы думали и о Рыжкове с Шеварднадзе. Но имелись у него и враги, например, Лигачёв. Зайков тоже был ретроградом. (Никто заверениям Горбачёва о единстве в партии не верил, - Ельцин открыл всем на это глаза.) Лукьянов встретил нас очень приветливо - так, как он это умеет делать. Вкрадчиво и на полном серьёзе он стал говорить: «Спасибо вам большое, дорогие народные избранники. Что бы мы только без вас делали? Эти предложения, вообще, бесценны. Мы обязательно учтём ваши наработки, ваши идеи. Ведь, поверьте, никто кроме нас так не заинтересован, чтобы съезд прошел демократично. Мы ради этого ведь всё и устроили. Вы думаете, для чего мы делаем реформы? А вот именно для этого. Давайте ваши предложения». Мы ему всё передали и со спокойной душой удалились. Я лично ему поверил. Абсолютно. Приближалось начало съезда, стали приезжать депутаты из других регионов. О московском клубе уже шла молва - о нём стали писать в газетах. Нам начали звонить из других регионов и интересоваться, можно ли подъехать. И подъезжали. Первым приехал Энгвер из Коми, затем ещё кто-то - всё больше и больше. Прибалты, украинцы - все подключались к нам. А мы им рассказывали, как будет проходить съезд, - мы ведь были уверены, что всё пойдет по нашим представлениям. (Лукьянов же принял наши предложения.) В комнатке стало тесно, и мы переехали в Дом ученых, где имелся большой зал. В нём, кроме собраний депутатов от Москвы, проходили ещё, под эгидой Велихова и Осипьяна, собрания всех депутатов из Академии наук, на которых наиболее активно выступал Яблоков. Атмосфера на них была более дружелюбная. Там собирался очень симпатичный народ, живые классики (почти как Нильс Бор) - Гольданский, Гинзбург, Сагдеев. Да и сам Велихов, хоть и числился завотделом, но, вообще-то, с молодости. являлся классиком. Он в науке сделал много - воздвиг краеугольные камни. И всё до тридцати лет. (В любой работе по магнитной гидродинамике больше всего ссылок на Велихова и его классическую работу начала 60-х.) В Доме учёных располагался и второй центр подготовки к съезду - Клуб [избирателей] Академии наук. По инициативе Велихова и Осипьяна мы тоже получили там под лестницей коморку со шкафом, двумя столами и двумя стульями, а также компьютер. В этой комнате и начала создаваться МДГ. Легендарная комнатка, которая стала штаб-квартирой МДГ, просуществовало долго - пока шёл съезд. Главным в ней был я. (Единственный, кому был близок компьютер и всё прочее.) Реальный человек - Куранов, который сейчас является замминистра атомной энергетики. Номер два - Головков, Шабад, Пономарёв, Собянин, Савостьянов. (Сидевшие в ней все стали большими людьми.) Когда стал известен список депутатов, мы начали его анализировать: кто в нём наш, кто не наш, кто от народа, а кто от партии. За день или два до съезда мы объявили сбор депутатов, для чего посадили в гостиницах, куда прибывали депутаты, свою команду - приглашать на клуб. Наконец, началась регистрация депутатов. Нам вручают папки с документами, портфели. Я открываю документы, вижу повестку дня и регламент и глазам своим не верю. Всё наоборот! И следов нет всего того, что мы делали целый месяц. Мы народ приглашаем, рассказываем, что будет на съезде, а тут всё совершенно другое. Я был в шоке: всё - зря, Анатолий Иванович обвёл нас вокруг пальца. Потом состоялась генеральная репетиция съезда - собрание партийной группы. Поскольку коммунистами являлись 98 процентов депутатов, то на него пускали всех. Я тоже туда пришёл. Всё прошло тихо, хотя были и интересные выступления. Моя задача состояла в том, чтобы слушать выступления и делать пометки в списке: этот - наш, а тот - сволочь. (Ведь никто никого ещё не знал.) Например, выходит некий Собчак и говорит вроде толково. Я ставлю соответствующую галочку. А потом началось то, что все видели по телевизору. Я думаю, моя теория была верна: в каком-то смысле Попов был засланный. Дело в том, что Горбачёв - человек который всегда играл в несколько игр одновременно. (Что его и сгубило.) И со всеми он играл в их игру, поэтому каждый его принимали за своего. Так что, думаю, я был прав. (Хотя с Поповым я никогда об этом и не говорил.) Они общались, и Горбачёв просил его нас организовать. С какой целью он это делал - одному ему известно: то ли чтобы получать информацию о наших планах, то ли ещё зачем-то. Единственное, что я тогда преувеличивал, так это то, что Горбачёв поддерживает Ельцина. Я думал, что в ходе этих пленумов Ельцин продолжал оставаться человеком Горбачёва. Но, конечно, в ту пору Ельцин рассматривал себя уже как конкурента ему. Ельцин знал, что именно он - тот, кто будет бороться с Горбачёвым за власть. Представления о том, как это сделать, у него не было, но чувство, что судьба его предназначила для борьбы с Горбачёвым, у него присутствовало. Естественно, что такие чувства всегда бывают обоюдными, и Горбачёв стал ревновать и бояться. Если бы вместо того, чтобы избираться на съезде, Горбачёв пошел бы на всенародные выборы (что мы и предлагали ещё в 90-м году), может быть, он получил бы далеко за 70 процентов. Ведь властители наших дум были за Горбачёва, и у нас в МДГ оппозиция избранию Горбачёва на Съезде была очень хилая. (Большинство в МДГ было за Горби.) Мне казалось, что у Горби нет конкуренции. Ведь Горби был лидером. И Ельцин полемика вёл с Лигачёвым ("Егор, ты не прав!"), а не с Горбачёвым. И Горбачёв вроде был виноват только в том, что не заступился. Но ведь и растоптать не дал, оставил министром. Мы тогда обсуждали возможность выдвинуть Ельцина и сделать выборы председателя съезда альтернативными. Ельцин тоже думал об этом. Мы собирались в узком кругу, но наша идея развеялась моментально, как только мы стали общаться по этому поводу с региональными депутатами. Даже прибалты (Прунскене, Ландсбергис) говорили нам: «Надоели вы со своим Ельциным. Какой Ельцин? Кто кроме Горби?» Только Свердловская делегация охотно восприняла эту идею. Съезд смотрели все. Мне рассказывали фантастические веши: везде включены телевизоры, вся страна словно прилипла к экранам. В магазине работает радио, все слушают, кассирша принимает рубль, даёт десять сдачи. Словом, массовое помешательство. Все кульминационные моменты съезда известны: выступление Сахарова, Червонописского. Мы тогда решили устроить бой и каждый раз предлагали собственную повестку дня. Первым для этого взял слово Сахаров. И последним перед Горбачевым выступал Сахаров. Сахаров первым сказал и об отмене 6-ой статьи, и о том, что сначала надо обсудить положение в стране, а уже потом заниматься выборами. (Суть наших предложений: главное - сначала обсудить, а потом выбирать. Нам это казалось более правильным по форме, хотя мы все и являлись горбачёвцами.) Альтернативные выборы тоже Сахаров предложил. (Он являлся главным спикером МДГ.) Все наши предложения были отклонены, и Сахаров ушёл из зала. Я понимал, что у Сахарова особая роль, он должен и может себя так вести - демонстративно не принять участия в голосовании, раз съезд отверг наши предложения. Выборы состоялись в первый же день. Бурбулис (он был поджарый, даже худой) выдвинул тогда Ельцина на место председателя, чем сразу и запомнился. (До этого мы его ещё плохо знали.) Оболенский выдвинул свою кандидатуру, которую не внесли в бюллетень. За Горбачёва проголосовали уже в первый день. (При этом председателем счетной комиссии являлся Осипьян.) И в первый раз я голосовал за Горбачёва совершенно искренне - всей душой. Вообще, мы все (и прибалты тоже) в едином порыве проголосовали за Горби. Так что Сахаров оказался единственным, кто ушёл. Потом прошли выборы Верховного Совета, в ходе которых возникла интрига: предполагалось выдвинуть ровно столько человек, сколько должно входить в Верховный Совет, но Москва этого сделать не дала - выдвинула больше. Сначала президиум против этого предложения стоял насмерть, но потом в конце концов Горби плюнул и сказал: «А, выдвигайте, кого хотите». Мы и выдвинули столько человек, сколько хотели - сколько записалось, столько и выдвинули. (Наша квота - 50, а выдвинули - 80.) В итоге Ельцина прокатили. (Против него голосовала, например, вся партийная верхушка.) Когда Казанник затем отдал ему свое место, никому и в голову не пришло спросить: «А как это можно - отдать свое место? И почему это один человек отказывается в Омске, а другой проходит от Москвы?» Ведь в регламенте ничего подобного не прописано. Но и мы вышибли несколько первых секретарей. Поскольку у нас было 200-300 депутатов, и мы вычеркивали всех первых секретарей, то наиболее одиозные из них получили по 200 голосов «против» и оказались за бортом. На третий день съезда Афанасьев произнёс по адресу сталинско-брежневского Верховного Совета свою знаменитую фразу об агрессивно-послушном большинстве. И в этот же третий день Попов как раз сказал о фракции и призвал записываться в МДГ. Список этот с подписями Сахарова и Ельцина (а мы не просто записывали людей, а давали им расписаться в разграфленном листе) я сохранил, и он находится у меня. Последовали несколько дней прений, в ходе которых состоялись прекрасные выступления того же Попова. Потрясающее впечатление произвела речь Емельянова, который сказал: «Народ выше партии, наш съезд выше съезда КПСС, Верховный Совет выше пленума ЦК». Было много и других замечательных выступлений, например, антикагэбэшное выступление Юрия Власова, после которого он стал звездой и после которого КГБ его затравило. Помню, что когда выступали прибалты, то они обращались к присутствовавшим: уважаемые депутаты, уважаемый председатель. Никаких "товарищей". По этому обращению мы уже отличали своих от чужих. Это была как бы метка. Дальше шли дебаты и - решение в виде брошюры. Ни одно из наших предложений в него не вошло. Но, всё равно, историческое значение этого съезда огромно. Никогда такого больше не будет - не будем мы больше заседать в одном зале вместе с прибалтами, не будет там украинцев и представителей Средней Азии. (На второй съезд прибалты ещё приехали, но были совсем не так активны, как на первом, в ходе которого они играли просто первую скрипку.) Кроме того, на мой взгляд, в народе долгое время - с ХIХ века - жила мечта об учредительном собрании. Существовало представление, что народ соберётся и всё решит, определит. Когда начались гласность и перестройка, идея учредительного собрания ожила. Потом возникло даже движение Марины Салье за созыв учредительного собрания, которым увлекся и Попов. Но если реально смотреть на события, то первый съезд как раз являлся учредительным собранием. Но мечта оказалась иллюзией. Съезд ничего не решил, и мечту об учредительном собрании можно было похоронить. Стало ясно, что если оно и соберётся, то, во-первых, будет непредставительным, а во-вторых, не сумеет принять никаких решений. В ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ Когда в 89-м году я стал депутатом, у меня появились друзья - в первую очередь Станкевич и Заславский. В ту пору я был очень близок и с Поповым, который являлся идеологическим стратегом всего демократического дела и главной фигурой в Межрегиональной депутатской группе, особенно после того, как скончался Сахаров. Конечно, в числе её сопредседателей продолжал оставаться Ельцин, но он был уже «великим». Афанасьев (тоже «великий») также вскоре стал отходить от наших политических дел и, особенно, от текучки. Так что роль Попова с 89-го по 91-й года была первостепенной. Это он принимал решения. Это он говорил Ельцину, что нужно делать. (У Ельцина с Поповым были близкие доверительные отношения.) У нас существовало сильное подозрение, что Попов, принимая решения, координирует их и с Горбачёвым. Это было важно в тот период, когда Горбачёв пользовался нашей поддержкой: мы знали, что играем с ним в одну игру. Так что всем в МДГ заправлял Попов, а я являлся его правой рукой. И в МДГ у меня с Поповым существовал полный контакт и единство. (С 89-го года мы работали с ним бок о бок и душа в душу.) Я и сейчас к нему хорошо отношусь, хотя политически не во всем с ним согласен. А тогда мы были просто не разлей вода. Другим таким человеком для Попова стал Женя Савостьянов. Он был при Попове кем-то вроде того, кем являлся Бурбулис при Ельцине. Правда, тесно сотрудничать с Савостьяновым он стал уже позже - в мэрии и тогда, когда Женя был назначен начальником московского управления Министерства госбезопасности. Первая серьезная размолвка с Поповым у меня произошла по поводу Литвы. Я поразился тогда, в каких жестких терминах («предательство» и т. п. - чего там только не было!) Попов пытался сформулировать позицию МДГ по отношению к Литве. В приватных беседах я мог убедиться, что это не показная его позиция, а вполне искренняя. Надо сказать, что Попов - человек имперский. Этот синдром я наблюдал часто, и он, как мне кажется, обусловлен его нерусским происхождением. Нерусским политикам присущ, видимо, комплекс, поэтому в этом вопросе они из штанов выпрыгивают, чтобы доказать, что они не занимают антирусскую позицию. Это проявлялось у украинца Станкевича, грека Попова, армянина Мигранян (который стал глашатаем имперской политики), отчасти у Собчака (который комплексовал по поводу своего хоть и славянского, но не русского происхождения). Вообще, к событиям в Вильнюсе, Риге и прочему у нас в МДГ относились по-разному. Кто-то верил, что Горбачёв тут ни при чем, кто-то - нет. Я считал, что с его стороны имеет место некоторое лукавство: он говорил такое, что могло быть истолковано двояким образом. Сам он истолковывал свои слова таким образом, что он не давал разрешения, а его коллеги по ЦК - что давал. Ведь и события августа 1991 года - результат такой же двоякости. До 91-го года я никогда никем не руководил, за исключением маленького аппарата МДГ. И даже не руководил, а просто взаимодействовал, - мы работали, как друзья, без иерархических отношений. Свою работу в Верховном Совете я привык начинать в десять, а то и в одиннадцать часов утра. В нашей работе всегда существовал сдвиг скорее к вечеру - отчасти из-за активистов, которые могли приезжать только после работы. Да и все наши демократические тусовки проводились вечером и в выходные дни. В этом имелась, кстати, и доля антикоммунистической пропаганды (потому что КПСС даже после провозглашения многопартийности все свои партийные съезды и пленумы проводила в рабочее время): «Как же так? Вы - такая же общественная организация, как и другие. Почему вы свои партийные мероприятия в рабочее время проводите? Какое имеете право?» В этом и заключался, наверное, главный смысл существования такого сдвига. Сегодня это звучит смешно. Сейчас появились профессиональные политики, мероприятия проводятся и в рабочее время, и когда угодно, но тогда все было по-иному. Ключевыми фигурами для нас тогда являлись Ельцин и Сахаров. Пока Ельцин боролся с Горбачёвым, он один весил больше, чем десять «ДемРоссий» или десять МДГ. Но весь этот период, когда уже существовала "ДемРоссия", мы не были нужны Ельцину, хотя он нам был нужен. И до путча Ельцин нас тянул, а не мы его. Единственный среди нас, кто был равен ему по моральному весу - Сахаров, которого быстро не стало. Поэтому оставался один Ельцин. Как я оцениваю тот мой энтузиазм? У меня было много наивности, неграмотности, невежества. В экономике я ничего не понимал. У меня имелись лишь абстрактные идеи, которые сводились к тому, что не надо забирать у людей деньги и затем государству их перераспределять, а лучше оставлять эти деньги людям, чтобы они сами их тратили на что считают нужным. Все книжки - экономическая классика - были прочитаны мною позднее. Вспоминаю, как однажды, когда правительство СССР отчитывалось перед Верховным Советом, лидеры МДГ Попов и Тихонов попыталась в очень робкой и ограниченной формы рассказать об идеологии рыночных реформ, но кто-то из министров рыжковского правительства произнес показательную фразу: «Пока я за это направление отвечаю, никакой самостоятельности у предприятий не будет». Но наивным был не только я. Как это стало видно потом, все мы были наивны, и я вижу, что это относится в такой же степени ко мне, как и к Сахарову. Хотя он был старым и опытным диссидентом, но когда писал свою конституцию соединенных союзов советских республик Европы и Азии, то у него и в мыслях не было идеи разделения властей (азбучной истины на Западе) и многих других вещей. Ладно, Сахаров - физик. Но Юрий Афанасьев - гуманитарий, историк, однако и он на учредительном собрании Межрегиональной группы в 89-м году, произнося с трибуны одну из самых ярких своих речей, говорил про путеводную социалистическую звезду. Не потому, что боялся кого-то. Просто и у него процесс осмысления действительности ещё не дошёл до конца, и он тоже тогда наивно верил в возможность построения социализма с человеческим лицом. (Миф о социализма был очень живуч.) Кстати, при жизни Сахарова мы практически не обсуждали возможность того, что Советский Союз распадётся. Это стало очевидно к концу 90-го года - через год после его смерти. В то время было много разговоров и споров о реорганизации СССР. Наша МДГ провела конкурс на лучший проект союзного договора и за несколько месяцев получила несколько сотен проектов. Мы подвели итоги и вручили первую премию за лучший проект некоему профессору Маниласу. Второе место заняли Салмин и Зубов. После этого нас пригласил к себе Ревенко, попросил у нас копии. На этой волне и было принято решение о проведении референдума, которым Горбачёв хотел застолбить полученные результаты. Правда, в этой борьбе они зашли слишком далеко и перегрузили вопрос так, что референдум потерял всякий смысл, превратившись в референдум по поводу того, хотите ли вы быть здоровым и богатым или бедным и больным. (Лукьянов так повернул этот вопрос, что получилось: хотите те ли вы жить в процветающем едином государстве, в котором соблюдаются права человека, и так далее, и так далее. В одном вопросе - сразу десять.) И постольку все выродилось в фарс, то республики провели свои референдумы. Е+НА после выборов президента России шансов на реализацию не было. Они подсекали Горбачёва. На этих выборах от коммунистов было выставлено три кандидатуры: Макашов (от самой реакционной части), Рыжков (который ещё недавно был верным соратником Горбачёва; за ним стояла огромная часть партии) и Бакатин (которого выдвинул Горбачёв, не желая поддерживать ни первого, ни второго). Кстати, Бакатин был единственным, кроме Ельцина, кандидатом, шедшим на выборы под трёхцветным флагом. Среди его доверенных лиц были мои соратники по МДГ, в частности, Святослав Федоров. И хотя за Бакатиным так или иначе стоял Горбачёв, на выборах он занял последнее место. Это означало, что никакого политического центра не существует, что ситуация складывается по принципу: стенка на стенку. ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ До 89-го года я не видел ни одного живого иностранца, но когда стал депутатом, мне начали звонить зарубежные журналисты. Позвонила девушка из Швеции, американец... Но поворот в моём мироощущении, понимании проблем произвела встреча с Робертом Криблом и с его фондом, которая произошла в конце 89-го года. Дело было так: осенью 89-го года (а я являлся уже секретарём МДГ) мне позвонил Осипьян. А надо сказать, что наши депутаты из Академии наук относились к нам очень хорошо. Может быть, и не все, но Осипьян и Велихов - точно. Хотя они и являлись, в общем-то, номенклатурными людьми, но были при этом образованными, хорошо знающими западный мир и демократически настроенными. Благодаря им мы и получили комнатку в Доме ученых. Итак, звонит мне Осипьян и говорит: «У меня есть знакомые американцы, которые занимаются выборными технологиями. Они хотели бы провести в Москве семинар на тему: как проводить выборную кампанию». И попросил меня помочь организовать семинар для депутатов и их помощников, многие из которых находились в этот момент в округах. Тогда уже было ясно, что в следующем году пройдет кампания по выборам в республиканские парламенты. И все об этом думали и к этому готовились, потому что кампания в 89-м году была проведена просто кустарно. Это сейчас нам ясно, что ведение избирательной кампании схоже с рекламной, которая призывает покупать тот или иной товар, и что избирательные технологии универсальны и абсолютно подходят в том числе для России. Но тогда мы ничего этого не знали. Я поговорил со своими друзьями-депутатами из МДГ, каждый из которых вёл прием и имел помощников и офисы на местах. Я сообщил, что приехали американцы, которые расскажут, как проводят кампании. Осипьян помог всё организовать - гостиницы и так далее. Наше дело было собрать людей и послушать. Американцы приехали. Но раньше них появился такой человек - Эдик Лозанский, который живет в Вашингтоне (в настоящее время - президент Американского университета в Москве, - АП). Он буквально ворвался к нам: давайте действовать вместе (вы - здесь, мы - там). Сыпал именами, которые находились у нас под запретом (Буковский, цвет диссидентства, «Контитетнт»). Сообщил, что тоже будет участвовать в семинаре. Мы собрались на «Юго-Западной», в Институте народного хозяйства, где всё было оборудовано для перевода и проведения конференций. Присутствовало много депутатов, помощников, а также люди от МОИ и народного фронта. Состав из МДГ подобрался сильный - всё больше незаурядные люди. Было довольно интересно: американцы рассказывали о выборах, правилах их проведения. На второй день организовали что-то вроде деловой игры, в ходе которой аудиторию разделили на две команды. Исходные данные - округа, кандидат и соперник. Надо было придумать лозунги и стратегию избирательной кампании. О результатах потом доложили. Всё прошло на хорошем уровне и очень живо. Американцы были в полном восторге. Когда семинар прошёл, у нас состоялся ужин. На нём присутствовал и седой джентльмен (дедушка, папаша джентльменского вида), который в семинаре особого участия не принимал, а сидел на задней скамеечке и наблюдал. Мне шепнули, что это - доктор Крибл, который всё это мероприятие финансирует. (Такая причуда богатого американца). Главным на игре был высокий, толстый и розовенький, как поросёнок, американец с хорошо поставленных голосом, которого звали Пол Вайрих. Представляя его на ужине , Эдик Лозанский, который был незаменим при личном общении с американцами, сказал, что это - «тот самый Вайрих» (очень известный политик; хоть и не конгрессмен, но фигура влиятельная). На этом ужине Вайрих, зная, что я - секретарь МДГ, наговорил мне невероятные комплименты: что семинар прошел отлично, что ни в одной стране, даже в Америке, они не встречали такую подготовленную аудиторию, что никогда не было такого успеха (за двадцать лет такое - впервые). Конечно, это - дежурные слова, но было видно, что американцы и в самом деле не ожидали ничего подобного. Практически все они оказались в России впервые и не знали о ней ничего. Они плохо понимали, кто такие наши депутаты, а столкнувшись с ними, были впечатлены: оказалось, что это - люди умные, остроумные, эрудированные, хорошо подготовленные, прошедшие хорошую политическую школу. Вайрих мне сказал: «Надо поговорить - есть повод для встречи и беседы». Мы договорились встретиться на завтра. Он предупредил, что разговор будет доверительный. Я был заинтригован. Проблема состояла только в языке. Я боялся, что не смогу поговорить с ними на своём ломаном английском. Единственные, кто могли мне помочь - это Лозанский и Станкевич, но оба в тот день были заняты. Тогда я позвал Шабада, у которого английский был получше. Мы встретились в "Москве" и проговорили пять часов. Эта встреча явилась для нас открытием друг друга. Оказалось, что встретились практически единомышленники. У меня были абстрактные идеи - права человека, свободы. Им этого оказалось достаточно. Мы рассказывали, как проходила компания 89-го году, и о том, что ей предшествовало - перестройка, гласность, история с Ельциным, Сахаровым. Они нам рассказали, как их команда занимается обучением. Позже в своих мемуарах Вайрих написал об этой встрече как о значимой для себя. Наша встреча совпала с важными событиями. Через день после отъезда американцев рухнула берлинская стена. Затем произошла бархатная революция в Чехословакии. Потом казнили Чаушеску. В общем, Восточная Европа освобождалась. Через некоторое время (в начале нового года) - звонок из Америки: наши недавние гости приглашают меня в Америку выступить и рассказать о том, что я рассказывал им. Приглашают меня с помощниками из числа тех, кто участвовал во встрече. Сообщают, что такого-то числа пришлют билеты. Получив это приглашение, я очень воодушевился: мне в первый раз предстояло ехать за океан. Проблема возникла только с тем, кто именно со мною поедет. Я хотел с Собяниным и Шабадом, но ни тот, ни другой не могли - ни у кого из них не было заграничных паспортов. (Тогда ещё существовали выездные визы, и железный занавес поднялся только для депутатов, но не для остальных.) Паспорт был у меня, а из тех, кто нам помогал - у Лёши Головкова. И я решил взять его. История эта - почти детективная. Если Лёша работал в Экономическом институте (вместе с Машицем, Вавиловым, Задорновым), то Наташа Писаная, моя помощница, была из Арзамаса - закрытого города. Нам опять помог Осипьян -дал распоряжение в Академию наук без вопросов сделать служебные паспорта Головкову и Писаной. Мы на это не очень надеялись, но паспорта нам всё-таки выдали. На утро следующего дня был назначен вылет, а чистые паспорта мы получили только накануне утром. Теперь нужно было за один день получить и въездную (американскую), и выездную визы. Я как депутат позвонил в МИД и попросил срочно поставить выездные визы, чтобы получить их без задержки в пять часов вечера. Мы заехали в МИД, и дежурный их нам поставил. В пять мы отправились с паспортами в посольство. Но тогда за один день визы не делали. Надо сказать, что аппарат МДГ к тому времени переехал из "Москвы" на Новый Арбат. Там в одной из комнат оборудовали переговорную комнату, из которой можно было позвонить за границу. И я позвонил в Америку и сказал, что паспорта задержали в посольстве. Мне велели перезвонить через час. Администрация тогда в Америке была своя, республиканская. Вайрих позвонил в Госдеп и рассказал про нашу ситуацию. Через час мы созвонились, и он велел через два часа подъехать в посольство и взять паспорта у охранника. Так всё и получилось. В 10 вечера мы, сами не веря себе, стояли с готовыми паспортами. От всех волнений и переживаний я заболел: когда я приехал домой, у меня поднялась температура - больше 39 градусов. Ольга меня накачала всем, чем только можно. Но как лететь? Утром температура - больше 38-ми. Не знаю, как меня только Ольга отпустила. Я чувствовал себя, как в бреду. Когда приехала депутатская машина, я погрузился в неё ни жив, ни мёртв. В ВИП-зале меня совсем развезло, и я чуть не потерял сознание. Мне сделали укол. Я сел в полупустой самолет, сделал себе коечку и проспал всё время полёта до Америки. Прилетели. Я ничего не соображаю, а Вайрих говорит, что у нас - плотный график. Дал нам расписание (по пять выступлений в день). Сначала - два дня в Вашингтоне. Затем - Аризона. (Там - большая тусовка и моё выступление перед республиканской элитой, что очень ответственно.) Жили мы в большом доме Вайриха. Рано утром (а американцы встают рано) - первое выступление в пятизвёздочном отеле в Вашингтоне перед журналистами. Меня напичкали лекарствами, и мне немного полегчало. Мне дали переводчика, профессора Джорджтаунского университета, который прекрасно, почти без акцента, говорил по-русски Но я тогда принял важное решение: я сказал, что буду выступать без переводчика - на своём ломаном английском. Это решение было осознанным. Мне очень хотелось знать язык, без чего я чувствовал себя неполноценным в кулуарах съезда народных депутатов, когда видел, как Станкевич бойко щебечет с иностранными журналистами. Я обратил внимание, что иностранные журналисты, с которыми мне приходилось общаться, часто говорят на ужасном русском языке - без падежей и путая все склонения и спряжения. И тем не менее, всё понятно, всё равно разговор получается. Так что я решил, что буду говорить как умею - американцы всё равно поймут. Это оказалось правильным решением. Начались поездки по тусовкам и встречам - в Белый дом (к Сунуну), в Конгресс (в комиссию Джесси Хелмса), на ужины, обеды... Говорил я одно и то же, как заезженная пластинка. Самое трудное оказалось - отвечать на вопросы. Это было сложно, потому что иногда вопрос в целом оказывался непонятен, так как я из него улавливал лишь несколько слов. В этом случае мне помогал переводчик. Но отвечал я всегда сам. Я чувствовал себя ещё плохо. Выступал, потом плюхался в машину, приезжал в новое место, снова выступал. Когда мы приехали в Феникс, случилась другая напасть - у меня разболелся зуб. Щёку раздуло и - ни есть, ни пить. Когда мы приехали в Аризону, то попали в сказку. Стоит февраль. В Москве - снег и мороз, в Вашингтоне - весна, а в Аризоне - лето, жара двадцать градусов. Нас предупредили, что мы едем в хорошую гостиницу, но оказалось, что гостиница в Фениксе - лучшая во всей Америке. Ничего подобного я не видел ни до, ни после - поле для гольфа, водопады, озера. Когда я зашёл в номер (с огромной террасой, уникальной мебелью), то подумал, что нас в нём хотят поселить всех вместе - настолько он казался огромным. (Кровати и то две.) Но всё - мне одному. В Сан-Сити - приблизительно то же самое. И необыкновенная чистота. Меня повезли к зубному. Дали обезболивающее, разрезали десну. Вечером - опять тусовка. Выступаю на ужине. Огромный зал человек на двести-триста. Роскошная обстановка. У них как принято? Сначала едят, потом говорят речи. Когда мы всё съедали, нам неторопливо по новой всё разносили. Обидно - есть уже не могу. Наконец, вышел какой-то мужик речь говорить. Оказалось, популярный телекомментатор. Говорил часа полтора. Очень интересно, но я всё равно заснул. Когда проснулся, пошёл выступать. Всё рассказал, ответил на вопросы. Помню, что в некотором смысле я оказался пророком. Один из вопросов касался Советского Союза - сколько он еще просуществует. Я ответил, что СССР исчезнет так же быстро, как Берлинская стена, и что на том пространстве на карте мира, которое закрашено розовым, будет несколько республик - таких, про которых вы даже не слышали (например, Киргизия). Они были в восторге. Спрашивали и про НАТО. Я отвечал примерно так: судя по тому, что НАТО было врагом коммунистической системы, то это, должно быть, очень хорошая вещь. Они устроили овацию. (У них это - правило хорошего тона.) Потом все подошли, пожали руку. (Это тоже принято.) Поскольку в Верховном совете я являлся председателем комиссии по информатизации (проще говоря, по компьютерам), то в ходе этой поездки у меня возникли ещё дела, связанные с необходимостью установки в ВС электронной системы для голосования, которую надо было заказывать за рубежом. (В то время мы в ВС ещё голосовали руками.) Председатель Велихов был этой идеей увлечен и ещё в Москве сказал мне: «Я напишу Скалолли, и ты съездишь в Сан-Франциско». Так что из Аризоны моя команда полетела обратно в Вашингтон, а я отправился в Сан-Франциско. К Скалли я полетел один - без сопровождающих. Летел первым классом. Со мной - единственным пассажиром в салоне - носилась стюардесса. На месте меня встретил водитель. Затем я целый день провел в экскурсиях по сердцу Кремниевой долины. Обратно ехал, как белый человек - в лимузине. Когда я вернулся в Вашингтон, мы с Лёшей стали обмениваться впечатлениями. В частности, в моё отсутствие они общались с переводчиком, и тот рассказал им много интересного. Оказалось, например, что мы побывали в «логове» - в самом сердце консервативной Америки, где находились в обществе «самых непримиримых ястребов, империалистов, антикоммунистов и идеологов войн». Одним из них являлся полковник Норт. В ходе этой поездки мы, учитывая успешный опыт первого семинара, договорились, что они проведут ещё один такой же, но уже в другом городе. В итоге в апреле мы провели даже два семинара - в Петербурге и Екатеринбурге. Заметим, что Екатеринбург всегда был закрытым городом, и они стали первыми попавшими туда иностранцами. Дело в том, что Бурбулис тогда только что победил на выборах в думу и претендовал на пост её председателя. Так что к нему относились с пиететом и разрешили провести там семинар по личному разрешению Крючкова. Так начиналось наше сотрудничество, которое продолжается до сих пор, хотя Крибл уже и умер. В результате него ко мне довольно быстро пришло, в частности, понимание того, в чём состоит смысл политической жизни в западном мире. Показательно: когда мы приехали к Вайриху (а он жил вместе с женой и младшим сыном), первый же наш совместный ужин начался с молитвы. Наутро завтрак - опять молитва. Ланч - молитва. Ужин - снова молитва. В Фениксе - тоже молитва. И так на всех тусовках и встречах. В Фениксе я встретил некоего Джима Беккета, который пригласил меня к себе в номер: «Хочу за вас помолиться». И так на каждом шагу. Я сильно заинтересовался религиозностью американцев. Например, Вайрих - глубоко религиозный, униат. Во второй свой приезд в Петербург он попросил организовать встречу с ректором Петербургской духовной академии. Встреча состоялась. Батюшки оказались образованными людьми. Я был далёк от всего этого, но слушал их разговор внимательно. Когда они затронули тему политики, ректор сказал: «Это - не наше дело, политика - сама по себе». На что Вайрих возразил: «Как же церковь может быть равнодушна к политике? Жизнь - это борьба добра со злом, и эта борьба протекает во многих областях жизни. И в политике тоже. Зло - это коммунизм, а добро - либерализм. Церковь должна бороться со злом. Тем более российская церковь, столько претерпевшая от власти. (Вам про это лучше знать - про запрещение церквей, убийство священников...)» Вайрих произнёс это очень эмоционально, и его слова произвели на меня глубокое впечатление. Через месяц меня (а также Владиславлева) ещё раз пригласили в Вашингтон - на платный семинар по реформам в России. Там я получил свой первый гонорар - тысячу долларов за получасовое выступление. Тогда же я разговорился с Бенни Линдтом, который прочел мне целую лекцию о протестантизме - его истории, ценностях, о том, с чего он начинался и как развивался. Образование я получал фрагментарное, и поэтому долго её переваривал. Но слова этого Линдта произвели на меня впечатление. Я стал понимать, что христианство - не нечто рядовое и ординарное, раз оно существует две тысячи лет (ни одно государство столько не просуществовало). Что цивилизация и культура всегда базировались на мировоззренческих ценностях. Что само исповедание христианства связано с экономическим прогрессом. Ведь его заповеди предписывают трудиться (а не воровать), и в этом случае человеку будут сопутствовать удача, богатство и счастье, то есть он будет вознаграждён уже на земле. И именно на этом построен западный мир и, в первую очередь, Америка. Летом, в период строительства ДПР, в Екатеринбурге проходила какая- то выездная конференция, на которую съехались люди из регионов. Там же состоялся и «круглый стол», где я прочёл целую лекцию о протестантизме. В общем, сначала я слушал, впитывал, а потом вываливал на слушателей свои впечатления от американцев и той поездки. Тогда же я и крестился, но сделал это механически, поспешно. Я чувствовал, что надо креститься, но ни о какой катехизации или сознательном отношении к этому не было и речи. Мы крестились в Загорске, причём сразу человек тридцать женщин и мужчин. (Когда крестили женщин, нам велели отвернуться.) Позже у нас состоялась интересная поездка, организованная Муном. Произошло это так. В Верховном Совете России (в недрах аппарата Хаса) стали готовить поездку в США наших политических деятелей - двух-трёх десятков депутатов от разных российских и советских партий. Меня как секретаря МДГ попросили помочь сформировать делегацию. Присутствие в делегации Юрия Голика, который в ту пору был влиятелен благодаря своей близости к Горбачёву, и кого-то из зампредов правительства ставило этот визит чуть ли не на государственный уровень. Все материалы, касающиеся этой поездки, имели такой знак: двуглавый орел (как в гербе Америки), но заключенный не в окружность, а в десяти- или двенадцатигранник. Поскольку программа включала в себя посещение Вашингтона, Нью-Йорка, Конгресса и многого другого, то этот антураж (красивая бумага с американским гербом) автоматически ассоциировался у меня почему-то с Конгрессом. Но в первый же вечер стало ясно, что США в лице своих государственных органов никакого отношения к нашей поездке не имеют, - она была организована и оплачена Муном. А к уголовной ответственности его не привлекали только потому, что при ближайшем рассмотрении этот герб оказался не каноническим гербом Америки, а заключенным в многогранник. Поездка включала очень познавательный дискуссионный семинар и набор лекций. Кроме того, мы побывали во всех муновских структурах - балетной школе в Вашингтоне, муновских ресторане, центре, гостинице, а также на встрече с самим Муном, с которой я просто слинял. Содержит Мун и институт типа научного. Мне было интересно сидеть на этих лекциях. Выступавшие на них изложили нам полную противоположностей идеологию Муна и подарили соответствующую книжку. Схема изложения идеологии, может быть, специально для нас, была целиком рассчитана на триаду: философия, политэкономия, научный коммунизм. Но интересно то, что все её сто тезисов были противоположны коммунизму. Как будто из чувства противоречия в ней с точностью до наоборот оспорили всё то, что содержалось в коммунизме. Удивительно было то, как при этом до боли знакомое содержание идеологии марксизма-ленинизма рассматривалось совсем с другой стороны. Больше всех этих лекций испугался Глеб Якунин, который с них слинял и появился только в аэропорту перед нашим отъездом. Отмечу, что в отделе общественно-политической литературы киоска гостиницы лежали только работы Муна и о Муне, а на тумбочке в гостиничной комнате работа Муна лежала вместо библии. Это дало мне пищу для размышлений, и я начал утверждаться в мысли, что коммунистическая идеология и режим, если идти до конца, упирались в этот маленький вопрос - не только философский, но и религиозный. И такой, казалось бы, не связанный с реальной жизнью вопрос приводит к такому разному экономическому устройству. Я эту точку зрения начал проповедовать. Создавая «ДемРоссию», мы много ездили по стране (вплоть до Владивостока), и я тоже ездил, не ленился и на неформальных посиделках делился этими своими впечатлениями. А весной 90-го года мы с американцами приехали в Екатеринбург и посетили там совершенно уникальный музей комсомола. Когда Бурбулис нас туда повёз, американцы были настроены скептически, но уже в музее они получили самые сильные впечатления. Это был музей тоталитарного общества (потрясающая экспозиция!) Там они в первый раз для американцев сформулировали то, что нам было знакомо - что советская идеология была построена по образцу религии: Маркс - Старый завет, Ленин - Новый завет. Апостолы, главный из которых Сталин, построили церковь - гигантскую партию, в которой имелись свои святые, свои мученики (начиная с Павлика Морозова), свои ритуалы. На это же время приходится и моё идеологическое становление, связанное с тем, что у нас начали печатать Хайека - «Дорогу к рабству», "Капитализм и свобода", ещё что-то. Для меня это было как открытие нового мира. Если раньше я и понятия не имел о "буржуазных" идеях, то теперь стал читать классиков и получать новые знания. Первая моя книжка - Фридмана, от которой я просто ошалел: прочитав её до конца, я потом перечитал её ещё раз. Раньше я не читал ничего подобного. На это же время пришлись и выборы в парламент, моё занятие партстроительством и знакомство с Каспаров. После знакомства с Гариком мы с ним занялись идеологической работой - в начале 91-го года мы вместе с ним писали программу для Демократической партии России. Я в ту пору являлся ещё и сопредседателем "ДемРоссии" - первым сопредседателем. Кроме меня были ещё Глеб Якунин, Лев Пономарев, Юрий Афанасьев и Витя Дмитриев. Координационный совет "Демократической России" заседал раз в неделю - в том самом зале Моссовета, где сейчас заседает правительство Москвы. А в то время кто там только ни тусовался! Вскоре Афанасьев начал отходить от дел: у него - и университет, и книги. А Дмитриев являлся российским депутатом из Питера. Это - яркая, значимая фигура, один из наших лидеров, автор всех уставов всех наших организаций. Он однажды вёл и митинг, на котором выступал Ельцин. Потом он отошёл от дел, сошёл с политической сцены и стал заниматься своим банком. Теперь он вообще не работает, потому что заработал столько денег, что ему хватит их на всю жизнь. АВГУСТ 1991 ГОДА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ После путча вышло много публикаций о том, что Горбачёва о нём предупреждали, что информации об этом было масса. И у Горбачёва в воспоминаниях говорится, что таких предостережений было много. Не знаю. Я был не последним человеком в МДГ и демократическом движении, но могу точно сказать: никакой информации об этом у нас не было и даже никаких слухов на этот счёт среди депутатов не ходило. Готовился Союзный договор. Было известно, что кому-то он не нравится, но, с другой стороны, этот договор совершенно не потрясал основ, он был нейтральным, никаким и укладывался в рамки обычного политического процесса. Стояло лето, затишье. 12 августа я спокойно уехал отдыхать в Грецию, в глухие места вдали от цивилизации. 19 августа от знакомого таксиста мы узнали, что в Москве что-то происходит. Я позвонил в Мюнхен на Радио «Свобода», и там мне сказали: Горбачева убили, революция, танки на улицах Москвы. Полный конец. Вечером я посмотрел по СNN, как гибнут люди, и был так напуган, что мы тут же (утром) покидали в чемоданы все вещи и поехали в аэропорт. В полупустом самолете, который летел через Цюрих, мы оказались почти единственными пассажирами. (Остальные - десяток журналистов. ) В Москве мы появились только по занавес. Что происходит в стране, я не знал, и был уверен, что как только я прилечу в Шереметьево, меня сходу арестуют - на паспортном контроле. Тех журналистов, с которыми я летел, я предупредил: «Ребята, мы с вами вместе будем проходить паспортный контроль, и когда меня станут арестовывать, вы снимайте, не упустите такой момент». В принципе, я отдавал себе отчёт в том, что меня могут и к стенке поставить тут же. Так что я летел, готовый погибнуть. Но сразу же , ещё на паспортном контроле, я почувствовал, что всё обстоит совсем не так, как я этого ожидал. С пограничниками мне разговаривать не хотелось, поэтому мы поговорили с таксистом, который вёз нас до города. - "Что происходит?" - "Да ничего. Сейчас по радио передали, что Горбачёв жив и что за ним полетели». Было видно, что чаша весов уже качнулась. Я сразу поехал в Белый дом, где уже заседал Верховный Совет России. Его делегация, действительно, отправилась за Горбачёвым. Из-за границы эти события выглядели трагично, но позже, когда я прилетел в Москву, пошёл в Белый дом и со всеми поговорил, то почувствовал огромную разницу в восприятии происходящего. В Греции я сидел, переживал, представляя самое ужасное, но внутри всё оказалось веселее. Я потом говорил со своими, и ни у кого не было слишком уж мрачных чувств. Такое чувство было у защитников Белого дома только в ночь с 20-го на 21-е, когда ожидался штурм (всего в течение пары часов). А всё остальное время там шло веселье, пьянство и всё такое. Между тем Старовойтова, находившаяся в Лондоне, и Афанасьев (в Мюнхене) в Москву тогда не вернулись. В это время все находились в отпусках. Я прилетел в среду после обеда, а большая часть коллег приехала только в понедельник вечером. Так что главную информацию о тех днях я получил от Явлинского, Лёши Головкова, Аксючица, от других российских депутатов. Настроения тогда были гораздо более кровожадными, чем позже - государственный переворот, преступление... В четверг отправились арестовывать путчистов. В соответствии с преобладавшими настроениями все ждали: их расстреляют сразу же или удастся довести дело до суда и дать им пожизненное заключение? В четверг в Кремле должен был проходить президиум Верховного Совета СССР под предводительством Лукьянова. Все межрегионалы пришли туда. Лукьянов, которого числили в предателях и путчистах, долго не выходил. Его тогда ещё не арестовали, и помню, что мы на него со страшной силой наехали. Лукьянов в ответ изображал из себя человека, который чуть ли не спас Горбачёва. Дальнейшие события развивались очень быстро: заседание Верховного Совета России, на котором состоялось публичное унижение Горбачёва, свержение Дзержинского, захват демократами Старой площади, создание комиссии по выяснению того, кто чего делал 19 августа. В общем, российская власть спешила использовать момент. Горбачёв тогда повёл себя неадекватно, и все республики провозгласили свою независимость. Провозгласила независимость и Чечня. А Украина не только провозгласила независимость, но и приняла решение о референдуме о президентстве (2 декабря). И всё понеслось - Лукьянова арестовали, назначили съезд. 29-го съезд состоялся. Ясно, что съезд последний. (Все уже провозгласили независимость, а тут съезд.) На этом съезде и прозвучало предложение Назарбаева сформировать съезд на основе делегаций республиканских парламентов. После съезда Ельцин уехал в отпуск, и там (какого-то ноября) состоялось историческое решение о правительстве реформ - о назначении Бурбулиса, Гайдара и Шохина. Но принято это решение было раньше - 3-го числа. А политическое решение Бурбулис добыл ещё раньше - на пляже, одетый в плавки. Уже тогда было ясно, что во главе встанет не Явлинский, а Гайдар. Подбирались и другие кандидатуры: например, Памфилову в правительство мы делегировали. Вот к чему я был причастен тогда, когда Попов вдруг предложил мне возглавить ГУВД. При этом я представлял себя в некотором смысле послом москвичей в милиции. У москвичей с милицией непростые отношения - милиция и коррумпирована, и жестока, и несправедлива. А я - человек со стороны, мне москвичи ближе, чем оправдания милиции. (Москвичи недовольны, а я их представляю.) Поэтому это и было удачным назначением. На первое же после этого заседание КС «ДемРоссии» я пришёл уже со всеми своими новыми «регалиями» - пистолетом, рацией и так далее, по поводу чего все вокруг шутили. Некоторые пытались мне намекать или в открытую предлагать (разговаривая со мной по-партийному): надо взять на работу такого-то, сделать то-то. Некоторые сами ко мне просились, но я довольно быстро понял, что этого не надо делать. Чуть только окунувшись в милицейскую жизнь и поговорив с людьми в ГУВД, я сразу понял, что никого из гражданских брать не стоит. В силовой структуре вполне достаточно одного гражданского человека - начальника. (Это - политическая должность.) Следующий уровень - рабочий, и там уже нужны профессионалы. Так что к себе на работу я никого из своих коллег не взял. Тогда же и некоторые из моих коллег-депутатов (до декабря мы ещё числились депутатами) начали ко мне ненавязчиво подкатывать: «Очень хорошо, что ты там сейчас стал начальником. Если бы ты меня взял, мы бы то и сё - навели бы там порядок». Был среди них и активный межрегионал из Донецка Карасёв, известный тем, что однажды на Верховном Совете произнёс гениальную речь против какого-то члена политбюро. Тот на Верховном Совете сказал, что ЦК КПСС ещё чего-то не решило, а Карасёв, который являлся членом партии, взбеленился, высочил на трибуну и произнёс: «А кто вас уполномочивал выражать мнение партии? Вот будет съезд, там мы и решим. И ещё неизвестно, что будет с партией. И вообще, партия - общественная организация, а мы тут - верховный орган власти». (Тогда ещё Сахаров был жив, потому что помню, как мы с ним это выступление обсуждали, и он был им очарован.) Интересно, что Горбачёв таких людей примечал и привечал: в 91-м году он нескольких людей из депутатского корпуса возвысил, и они одно время являлись очень важными персонами. Был, например, такой Юрий Голик, который вдруг ни с того, ни с сего стал курировать все силовые ведомства. Являлся он советником Горбачёва и по связям с политическим партиям, общественным организациям и всему прочему. Карасёв только вошёл во вкус этой своей работы, только почувствовал себя начальником, как случился путч, после которого все советники Горбачёва в одночасье превратились в никого. Всё стало распадаться, и Валя Карасёв позвонил мне и попросил, чтобы я взял его к себе на работу. Я стал думать, куда его можно пристроить. Он являлся человеком гражданским и единственно, к чему имел какое-то отношение, так это к образованию - преподавал и как-то был связан с образованием. Для него мы придумали создать в ГУВД управление по подготовке кадров - для координации деятельности учебных заведений при ГУВД. Самого Карасёва мы аттестовали, и он получил звание подполковника. Когда по-человечески бывает совершенно невозможно отказать, начинаешь придумывать более или менее полезную ячейку. И мы придумали фиктивное управление. Полагали, что будет толк, но толку не вышло, Управление оказалось довольно никчемным. В общем, именно таким образом растут бюрократические структуры. Так работает закон Паркинсона. Так увеличивается численность президентской администрации. Когда были подписаны Беловежские соглашения и СССР начал распадаться, то от Горбачёва все отвернулись. Карасёв сохранил в Кремле связи и перед Новым годом, зайдя ко мне, рассказал, что в аппарате у Горбачева царит полная депрессия. Все оказались не у дел. Горби никто больше не звонит. Мне его стало жалко. Я попросил: «Узнай, можно ли с ним встретиться». Да, сейчас он не у дел, но это не означает, что мы не должны быть ему благодарны. Ведь все мы - его дети. На следующий день он звонит и говорит: «Тебе назначено». Я приехал в Кремль. В приёмной никого не было. На столе - ядерный чемоданчик. (После выяснилось, что я встретился с Горбачёвым как раз накануне его отречения, когда решение об этом было уже принято, но ещё не обнародовано.) Я думал, что Горбачёв выйдет ко мне подавленный, расстроенный, а я скажу: «Не расстраивайтесь, мы к Вам хорошо относимся». И если разговор завяжется, то я задам ему вопросы о том, чего он боялся, что ему мешало. Хотел спросить и про «500 дней». Но получилось всё не совсем так. Горбачев был очень весёлым, энергичным, говорил уверенно. Мы просидели минут сорок или час. Но разговора по душам не получилось. Вышел монолог, и этот монолог был бессодержательным. Он говорил, о чём хотел (вещи совершенно банальные), и я никак не мог повернуть в то русло, в какое бы мне хотелось. Я был разочарован, так как не сказал, чего хотел. А он говорил о Беловежских соглашениях, о том, какая это ошибка. Я возражал: «А с Союзным договором что вышло? Пока не было путча, ещё можно было о чём-то говорить, но позже... Мы ведь предлагали договор ещё два года назад». Но прервать его было невозможно. Он меня заговорил, и я не сказал и десятой доли того, чего хотел. Лейтмотив у Горбачева был прежний: вы ничего не понимаете, я знаю больше. Но одно дело, когда в 89-м году он побеждал на всех пленумах, и совсем другое дело - теперь, когда он всё проиграл. Но он продолжал твердить одно и то же. В какой-то момент он остановился, и мы распрощались. Эмоционально всё было тепло, но по сути... Я ушёл от него разочарованный. Успокаивало только то, что по-человечески он ни в чём не нуждается. И позже, когда мы с Горбачёвым ещё пару раз встречались на всяких публичных сходках, поговорить с ним было совершенно невозможно, потому что это всегда был монолог. Очень уж люди подобного масштаба любят, чтобы их слушали. Когда в Москву приезжала Маргарет Тэтчер, то на приёме в посольстве я сидел за одним столиком с ней, Адамишиным и Яковлевым, и помню, что никому из нас не удалось и слова вставить в её монолог. Видно, она уже не нуждалась в том, чтобы слушать кого бы то ни было. Текст подготовлен А. Пятковским в 2006 г. на основе диктовок, выполненных А. Мурашёвым в 1997 г. Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



