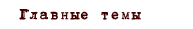
 |
|
Лекция-интервью о неформалах
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ НОВЫХ ЛЕВЫХ А. Пятковский: Расскажи о том, когда и при каких обстоятельствах ты впервые столкнулся с неформалами. В. Дамье: Сколько себя помню, меня всегда к ним тянуло. Другое дело, что найти кого-то из них в ту пору, когда я был достаточно молод и учился в институте, мне не удавалось. Я - 59-го года рождения, и поэтому ясно, что моя студенческая юность пришлась на конец 70-х годов. Это - время достаточно странное, когда, с одной стороны, уже появлялись какие-то оппозиционные группы, но, с другой стороны, группы эти имели достаточно узкий круг общения вовне и достаточно быстро попадали под молох репрессий. Поэтому найти какую-то группу, с которой можно было бы установить контакт, мне было достаточно сложно. По крайней мере, в моём окружении таких людей не было. С другой стороны, я с 75-го года слушал западное радио и знал, что такие оппозиционные группы существуют. Про некоторые из таких групп я знал достаточно хорошо, потому что конспектировал всю информацию, которая передавалась по западному радио. (Если бы эти записи тогда у меня нашли, мне бы было довольно плохо.) Так что я знал о существовании оппозиционных групп либерального и правозащитного толка и даже, кое-что, о существовании левых групп (например, в Ленинграде). Знал и про репрессии. В принципе я, конечно, хотел бы кого-то из них найти. Прежде всего, конечно, группу из левой части спектра, потому что либеральные группы меня тогда уже совершенно не привлекали. (Я всегда считал себя человеком левых убеждений.) Но, повторяю, тогда в своём окружении никого из них я найти не смог. Теперь немного о моих убеждениях того периода. Я всегда полагал и полагаю до сих пор, что первичны, может быть, даже не столько убеждения, сколько некая система ценностей. То есть именно система ценностей, видимо, и является тем, что побуждает человека принять и разделять те или иные убеждения. Если человек разделяет такие ценности, как справедливость, равенство, отсутствие иерархии, представление о том, что люди равноценны, а раз они равноценны, то имеют равные права пользоваться жизненными благами и равные права на самоопределение, то, следовательно, место этому человеку - в системе левых ценностей. (Всё это и есть левые ценности.) И я, повторяю, был, сколько себя помню, человеком левых ценностей. Другое дело, какие левые взгляды он там найдёт, в какой мере он примет компромисс, в какой степени пойдёт на то, чтобы эти ценности, которые он разделяет, реализовывались этой идеологией на сто процентов, на восемьдесят процентов, на двадцать пять процентов, - это уже вопрос другой. От этого зависит уже идеология. Что касается идеологии, то выбор идей был тогда делом очень сложным. Я разговаривал с людьми, которые тогда, в конце 70-х, прошли через то же, что и я (то есть точно так же искали свои убеждения), и у всех наблюдалась приблизительно та же картина, что у меня. А именно: поскольку, как и все советские граждане, мы не имели доступа к книгам-первоисточникам (мы не могли читать тогда ни Кропоткина, ни Троцкого, ни новых левых теоретиков; мы могли, конечно, читать Маркса, но тоже далеко не всё), постольку мы вынуждены были так или иначе конструировать свои убеждения на основе того, что мы читали в советских книгах. Таких, как какая-нибудь “Критика мелкобуржуазного революционаризма кого-то там”, “Критика троцкизма и анархизма”, “Критика там ещё кого-нибудь”. А. П.: Поясним молодому читателю, что наше с тобой поколение свои знания об этих течениях имело возможность легальным образом получать только из этих вот критических советских книжек. В. Д.: Совершенно верно. Но тут важно иметь в виду такую вещь: книжки-то эти показывали данные идеологии очень и очень неадекватно, и поэтому составить правильно представление о них было очень сложно. В итоге в наших несчастных головах образовывался тихий хаос. Мы пытались, читая эти книги, отбрасывать всю ругательную часть (которой там было предостаточно) и выбирать некий позитивный пересказ того, что же, собственно говоря, хотели те или иные идеологи. И вот из этого пересказа, часто совершенно необъективного и неадекватного, а иногда просто лживого, мы пытались сконструировать нечто, которое, с нашей точки зрения, и было искомой нами идеологией. П.: Я бы даже использовал слово “реконструировать” - подобно тому, как по отдельным фрагментам пытаются восстанавливать облик какого-нибудь динозавра. Д.: Да, только палеоанатомы реконструируют нечто, бывшее очень и очень давно, а тут-то речь шла о выборе позиции для себя - сегодня и сейчас… Поэтому не приходится удивляться тому, что во взглядах левых того периода сочетались вещи совершенно невероятные. Допустим, анархизм и троцкизм могли совершенно спокойно сочетаться вместе. Почему бы и нет? Разницу между ними из книг, которые попадали тогда в наши руки, понять было совершенно невозможно. В этом смысле мне очень сложно как-то охарактеризовать свои тогдашние взгляды. Ну, левые? Да, конечно. Левореволюционные? Да, естественно. Оппозиционные по отношению к существующей системе с чётким представление о том, что эту систему необходимо свергнуть в ходе революции? Да, конечно. То, что она должна быть заменена каким-то свободным социализмом? Да. То, что этот социализм должен быть основан именно на общественной собственности, а не на государственной? Конечно. В то же время отношение к фигуре, например, Ленина было всё-таки позитивным. Вроде как Ленина потом оболгали, что ли. Помнишь, у Фазиля Искандера: “Тот, кто хотел хорошего, но не успел…”? Ведь Ленин – это что? “Государство и революция”. То есть он – почти “либертарный” теоретик… Нет, конечно, какие-то фразы там настораживали, но, может быть, они были неверно поняты или не то имелось в виду… Ну, может быть, человек не на сто процентов был прав... Но... И так далее, и тому подобное... А ранний Маркс и его критика отчуждения? Бог ты мой! Замечательно! Прямо про “нас”! Вот из всего этого и формировался некий бульон, из которого я черпал тогда свои политические убеждения. Повторяю: это были просто абстрактные мысли, которые даже не были зафиксированы на бумаге. Ну я пытался тогда начать писать нечто теоретическое, которое даже начал с такой фразы (я цитирую примерно): “Автор не скрывает своей симпатии к Четвёртому интернационалу как самому революционному из революционных, но имеющиеся источники совершенно не позволяют ему сделать чёткий выбор между теми или иными течениями”. (Потому что я тогда уже знал, что этих четвёртых интернационалов – как собак нерезаных. А чем они там друг от друга отличались, было вообще не понятно. И чем они, в свою очередь, отличались от анархистов, было непонятно точно так же.) Эта была такая вот абстрактная “анархо-троцкистская” позиция (скорее, даже по названию, чем по сути) – а скорее, даже смесь анархизма и коммунизма рабочих советов. (Если с сегодняшних позиций оценивать то, что я думал и полагал тогда.) Но вернёмся к тому, с чего мы начали. Убеждения убеждениями, идеи идеями, - всё это хорошо. Но ни одна не то что левая группировка, о которой я слышал, но даже просто какая-нибудь оппозиционная группировка в ту пору мне никак не попадалась. И в 81-м году я благополучно закончил институт, пошёл работать в систему Академии наук, поступил в аспирантуру. В аспирантуре я сначала хотел писать работу о левых радикалах, потому что мне, естественно, были интересны западные новые левые - леворадикалы, ультралевые... Но это не пришлось ко двору, - сочли, что на эти темы не надо писать. Поскольку я всё-таки пытался, слушая западное радио, как-то отслеживать те социальные процессы, которые происходили в странах Запада, то я знал, что существует такая вещь, как экологическое движение. Я знал, что тогда, в конце 70-х - начале 80-х, очень многие левые радикалы, новые левые 60-70-х годов интегрировались в экологическое движение. Более того, в какие-то моменты могло возникнуть такое впечатление, что экологическое и зеленое движение на Западе – это новая форма левого, леворадикального движения. Напомню, что это - гражданские инициативы, массовые марши против ракет, против атомных электростанций, выступления, которые сопровождались радикальными формами действия (блокадами дорог, захватами территорий строек), создание общин, коммун и других форм общежития на коммунитарной основе, альтернативное движение, в котором участвовали тысячи людей, создававшие коммуны или другие формы общежития на коммунитарной основе, движение сквоттеров... Поэтому когда встал вопрос о выборе диссертационной темы, мне пришло в голову написать об альтернативном движении в Германии. Тема эта с некоторыми изменениями была утверждена и стала называться: “Движение “зелёных” в ФРГ”. Вот так я погрузился в экологическую проблематику. Сначала я изучал это движение на западном примере. При этом я получил доступ в такое ныне неведомое учреждение, как спецхран, где начал читать (естественно, ещё не по-русски) книги реальных левых теоретиков. То есть я уже мог как-то корректировать какие-то свои старые представления - во многом наивные, во многом путанные, хаотичные - и мог их как-то уже коррелировать с тем, что реально говорили эти левые теоретики. Тогда мои взгляды стали приобретать некую более осознанную, более стройную, более органичную форму. Я написал об этом движении и защитил диссертацию, в которой, в общем, сказал (ну, конечно, в завуалированной форме) то, что хотел сказать. То есть о том, что это - новая форма левого движения, которая имеет социально-революционные перспективы.
ПОИСКИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ Защита моей диссертации - это 84-й год, 85-й. И тут начинается перестройка. которая открывает новые возможности для того, чтобы те идеи, которые формировались у людей в головах, могли как-то артикулироваться, вырываться наружу в той или иной форме, в том или ином виде - сначала осторожно, но потом всё более и более свободно. Напомню, что 86-й - это Чернобыль, экологическая катастрофа. Реакцию западных зелёных на это я знаю - я всё это слушал по радио. А тут ещё появляются первые перестроечные организации - уже более-менее полулегальные, то есть, собственно говоря, “неформальные”. Появляются экологические группы, появляются политические группы, в том числе левого спектра. Однажды я разговорился с молодым парнишкой - сыном сотрудницы нашего института, который имел очень широкие связи в неформальной среде - и рассказал ему про свои взгляды и убеждения. Он интересовался тогда новыми левыми (ими тогда очень многие молодые люди интересовались), и через него я начал потихонечку знакомиться с разными людьми из неформального движения Москвы. П.: Просьба называть по возможности более точно даты и имена. Д.: Парня этого звали Максим Мейер. П.: Кем был Максим? (Мне представляется, что тогда, в 86-м году, он должен был быть ещё школьником.) Д.: Я уже не помню, был он тогда школьником или уже студентом. Но он интересовался Франкфуртской школой, Маркузе, новыми левыми. Я в те времена не скрывал своих симпатий, Франкфуртская школа была мне крайне симпатична, так что так или иначе мы должны были “найти друг друга”. Максим оказался тем каналом, через который я вошёл в неформальное движение. Так уж случилось. Канал этот оказался не самый плохой, потому что контактов у Максима было реально море, причём в самых разных концах неформальского спектра. Но меня тогда интересовал не весь спектр. Я пытался найти тех неформалов, которых бы можно было как-то заинтересовать моей “программой”, если говорить нахально, а скорее – некоторыми идеями, которые заключались в следующем: необходимо новое левое течение, которое бы основывалось на социальной и экологической проблематике и которое бы создало в этой стране мощную экологическую и политическую (экополитическую) организацию, занимающуюся одновременно с идейными вопросами и координацией массовых гражданских экологических инициатив. Напоминаю, что это - 87-й год. Эпоха, когда после Чернобыля поднимаются первые экологические группы, которые становятся достаточно распространённым явлением. В Москве, например, были десятки таких групп (в кварталах и микрорайонах), потому что Чернобыль вообще привлёк внимание к экологической проблематике, а тут ещё наложились проблемы большого города: урбанизация, строительство транспортных и промышленных объектов (Москва ведь тогда ещё была промышленным городом), которые сооружались без всякого желания жителей – примерно как сейчас осуществляется “точечная застройка”. Это вызывало в общественном мнении, которое после Чернобыля было уже чувствительно к проблемам экологии, к проблемам окружающей среды, чувство протеста. И здесь соединялись две вещи: экология, экологическая восприимчивость, с одной стороны, и мощный антибюрократический потенциал. Люди говорили: “Как же? Без нас нас женили, без нас тут всё решают - как нам жить в нашем собственном квартале, нашем микрорайоне. Мы хотим, чтобы с нами считались”. Это - абсолютно такое же начало, какое было у экологического движения на Западе. Люди начинали с того, что пытались как-то обратить внимание властей на свои проблемы, но власти их посылали далеко и надолго. Когда они начинали писать письма протеста, власти этими письмами подтирались, после чего люди, потеряв терпение, формировали группы, экологические комитеты и начинали протестовать в довольно уже радикальной форме вплоть до митингов протеста, перекрытия дорог, блокад объектов и прочее. Экополитическая организация, о какой я тогда думал, могла бы координировать вот эти выступления и, с другой стороны, она должна была бы работать над развитием сознания людей, чтобы у людей постепенно, через экологическую проблематику, формировалось осознание необходимости смены общества. При этом я скажу абсолютно честно: экология сама по себе, “как наука”, меня никогда не интересовала. Она меня всегда привлекала как мостик к социальным проблемам. Для меня это были вещи совершенно взаимосвязанные. То есть экология для меня была прежде всего способом дать понять людям, что они живут в отчуждённой среде, в отчуждённом обществе, где от них ничего не зависит, где они не могут регулировать условия своей собственной жизни , и в том числе, свои отношения с природой. Через это, как мне казалось, люди должны были прийти к осознанию смены отношений с природой и друг с другом и, постепенно, к мысли о смене системы. К этому времени я уже читал таких людей, как Мюррей Букчин и Андре Горц, то есть экосоциалистических и экоанархистских теоретиков, и уже в значительной степени ассоциировал себя с этими идеями. Мне казалось, что и будущее левого движения связано именно с этими вещами, а не с какими-то строительством авангардной партии рабочего класса, с апелляцией к авторитету вождей и учителей - Ленина, Троцкого и так далее. Я надеялся, что искренне левые поймут, что это уже - вчерашний и позавчерашний день. Отсюда задача: найти в левом неформальном движении (если таковое есть) людей, которые могли бы разделять те же самые идеи, и на основе этих идей вместе с ними что-то создать. Итак, в 87-м году я начал через Максима проводить что-то вроде турне по неформальной сцене Москвы. Так я это для себя (по образцу западных левых альтернативных структур) тогда и называл: “левая сцена”, “альтернативная сцена”. В августе 1987 года состоялась знаменитая встреча неформалов в ДК “Новатор”. Через Максима я попал на эту встречу, посмотрел, что на ней делается, впервые увидел многих людей, с которыми мне потом пришлось неоднократно и очень плотно сталкиваться. Вспоминая свои тогдашние впечатления, могу сказать, что в общем и целом атмосфера и ситуация на встрече мне не понравились. Тех людей, которых я искал, я там не нашёл. Там были люди, с моей точки зрения, очень умеренные. Ни в какой “диалог” с перестройкой (а таков был девиз встречи) я вступать не собирался. Ведь с самого начала перестройки я формулировал для себя ответ на вопрос: что же она такое? И понял: она для меня совершенно неприемлема. Прежде всего, перестройка шла сверху, а ничему, что шло сверху, я не доверял и доверять не мог в силу своих убеждений и той системы ценностей, что у меня сложилась. Не устраивала меня и ее направленность. Я обратил внимание вот на что: с одной стороны, вроде как бы приоткрываются двери, вроде бы становится можно немного более свободно говорить, осуществляется некая, как тогда говорили, демократизация... (Хотя народ чуточку позже шутил, что разница между демократией и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией. Хорошее было, кстати, замечание.) Я задавал себе вопрос: если верхи это осуществляют, то почему и зачем они это делают? Чего они хотят-то? Если власть что-то даёт, значит, она, видимо, чего-то для себя за это хочет? Чего именно? Сначала говорилось об “ускорении”. (Про “перестройку” стали говорить потом.) То есть речь шла об интенсификации труда. Потому что самое ходячий упрек в адрес “реалсоца” тогда звучал так: все плохо работают. В адрес простых людей это высказывалось так: “Плохо работаете, потому плохо и живёте”. А что нужно, чтобы лучше жить? Ну, конечно, лучше работать! То есть власть хочет, чтобы мы на неё лучше работали. Ишь чего захотели эти чинуши! Платят нам копейки, сами за наш счёт всю жизнь живут и ещё хотят, чтобы на них лучше работали. Значит, “демократизация”, которую они нам дают, это - обман, морковка, которую мы должны проглотить, чтобы вкалывать на них как можно больше. На этот мотив вскоре наложилась еще одна пропагандистская идея: о том, что социальной дифференциации, в принципе, вещь хорошая и правильная. Ведь кто хорошо работает, тот хорошо и живёт, а тот, кто плохо живёт, сам и виноват. Мысль, для меня также совершенно неприемлемая. Ведь в том, что люди от рождения имеют разные силы и интересы, нет никакой “заслуги” или “вины” с их стороны. Все они имеют равное право на доступ к жизненным благам. Ну и уж совсем не нравилось мне внедрение элементов рынка: ведь людей стимулировали к наживе, к тому, чтобы самоутверждаться и богатеть за счет других. Я это воспринял примерно так: власть хочет натравить одних людей на других, хочет заставить одних людей с помощью упомянутой морковки лучше на неё работать, а остальные пусть прозябают, как хотят. То есть я увидел в перестройке очередной манёвр КПССовских властей с целью интенсифицировать эксплуатацию людей. Реакция с моей стороны была примерно такой... Вы там наверху недовольны тем, как мы на вас работаем? Но если мы так плохо работаем, то почему вы так хорошо живёте? Очевидно, вы рассчитываете на то, что мы на вас будем работать ещё лучше. Но не слишком ли вы там обнаглели? Иными словами, я очень чётко воспринимал происходящее как некий классовый конфликт между трудящимся народом и эксплуатирующей его властью, что вполне соответствовало концепции о том, что в СССР никакого социализма нет (ибо нет и не может быть социализма без народного самоуправления), а есть обыкновенный государственный капитализм, при котором бюрократия – это коллективный эксплуататорский класс, который эксплуатирует трудящийся на неё народ. Считая, что народ приносит ей слишком мало прибыли, она хочет усилить эту эксплуатацию, поманив людей обманкой демократизации, по принципу: “говорите, что хотите, главное – вкалывайте на нас”. Всё, что происходило с 1985 года, я воспринимал в духе этой концепции. И, как понимаю, не так уж, в общем-то, был не прав. Потому как нацелено у власти всё было именно на это. Другой вопрос - что потом из этого получилось. Потом просто они наверху заигрались, и ситуация в какой-то момент стала выходить из-под контроля инициаторов (или их части). Но если перестройка – это обман, то нужно готовить людей к социальной революции и готовить саму эту революцию. Я рассуждал: социальная революция не происходит потому, что люди в массе своей не осознают пока её необходимость. А не осознают потому, что они отчуждены и разобщены, потому что не воспринимают себя непосредственно в конфликте с системой. Значит, нужно развивать те формы самодеятельности, самоорганизации и борьбы с системой, которые постепенно выведут людей на глобальное, фронтальное противостояние с ней и подведут их к социальной революции. То есть путь к революции состоит не в повторении заученных фраз и не в рисовании привлекательных картин нового мира, а в развитии самоуправления посредством борьбы за экологические требования, социальных движений, рабочих протестов… Меня прежде всего привлекало, конечно, экологическое движение. В 87–88 годах это было самое массовое движение в Союзе. Тысячи людей участвовали в экологических акциях протеста, десятки тысяч подписывали письма и обращения протеста, сотни тысяч высказывали озабоченность экологическими проблемами. Никакого другого массового движения тогда ещё в России не было. Как мне казалось, это - наиболее перспективное движение и, соответственно, к социальной революции следует идти через него. Тем более, что как система бюрократического “реалсоца”, так и рыночные реформы неминуемо вели к дальнейшему нарастанию экологического кризиса. Как чиновнику, так и дельцу на экологию наплевать. Таковы были мои мотивы тогда. И зная их, легко понять, почему меня не могло устроить то, что я услышал на августовской встрече неформалов. Во-первых, мало кто говорил об экологии (этот вопрос никого особо не интересовал). Всех больше интересовали вещи, связанные с политическими свободами. Но я-то для себя уже решил, что эти свободы – обман. Они “даруются” для того, чтобы люди отвлеклись от противостояния с властью. Во-вторых, я не услышал никаких радикальных вещей, нацеленных на революционный конфликт с властью. Участники были настроены на диалог, на компромисс, что, в общем-то, меня тоже тогда не могло устроить. Впрочем, я понимал, что не обязательно люди должны всё сразу высказывать. Может, они про себя что-то и думают, но просто не высказывают этого? Посмотрим, -сказал я себе. Кроме того, все выступавшие в той или иной форме были за некое единство неформального движения. Напомню, что тогда, на этой встрече, или сразу после неё возникло два больших объединения. Одно - более либеральное и второе - социалистическое (будущая Федерация социалистических клубов). Ни то, ни другое меня особенно не устраивали. Либералы – потому, что хотели, заменить государственный капитализм на частный, что, в общем-то, означало точно такое же отчуждение, такое же разрушение окружающей среды. Это была та же неприемлемая ориентация на господство и неравенство, что и при существующей системе. Надо ли менять шило на мыло? С другой стороны, были социалисты... За какой же социализм они выступали? Разве они выступали за социализм экологический, эгалитарный и коммунитарный – за общество, где все равны и свободны, где нет господства человека над природой и другими людьми? Нет. Они выступали за совершенно другое общество - за рыночный социализм, для меня тоже совершенно неприемлемый. Потому что рынок - это мощнейший фактор дальнейшего разрушения окружающей среды, и без того уже разрушенной хозяйствованием госкапиталистических бюрократов. Но встреча 1987 года все-таки сыграла определенную роль в моей “неформальской” судьбе. Потому что примерно тогда и в связи с этим я стал членом первой в своей жизни политической “неформальной” группе. Называлась она “Объединенный антифашистский фронт”. Сегодня у меня остались о ней несколько расплывчатые воспоминания. (Наверное, такие остаются у людей о раннем детстве.) Но все-таки, почему “антифашистский”? Напомню, что тогда активно действовало ультраправое националистическое общество “Память”. О нем много говорили как об источнике и зародыше фашистской угрозы в стране. Национализм я всегда не выносил органически. А в “неформальской” среде в ту пора высказывалась идея создания антифашистского движения. И вот во второй половине 87-го года мы вместе с несколькими людьми, с которыми я познакомился через того же Максима Мейера, собрались и решили создать несколько эфемерную организацию “Объединённый антифашистский фронт”. Конечно же, она не была ни “фронтом”, ни “объединённым”. Это была просто маленькая группа, в которой состояло от силы с десяток человек. Словом, тусовка – как все тогдашние неформальские группы. Никаким реальным антифашистским действием мы тогда не занимались. (Не было тогда в Союзе никакого реального антифашистского действия.) А занимались мы, в основном, как все тогдашние неформальские группы, дискуссиями, чтением и обсуждением книг, работ и просто разговорами, общением. Но, повторяю, этот “Фронт” стал моей первой неформальной “организацией”. Любопытно, что, видимо, я уже тогда во многом тяготел к анархизму. Когда мы обсуждали варианты названия организации, я предложил назвать её ФАИ – Федерация антифашистских инициатив. При этом имел в виду определённые параллели: ФАИ называлась и Федерация анархистов Иберии, организация испанских анархистов… П.: Меня интересует, что ты помнишь о самой этой встрече неформалов. В частности, то, как ты на неё попал. Д.: Через Максима Мейера. П.: Насколько я понимаю, существовали квоты для организаций, и получить на неё пригласительный было не совсем просто. Д.: Все это сегодня вспоминается как в дымке… Но, пожалуй, после твоих вопросов, я могу припомнить вот что… Сам я на встречу попасть, конечно же, не мог. Самих участников встречи я не знал, а с начальством и подавно никаких дел никогда не имел. Я всегда старался от людей во власти держаться подальше. Не любил я их, скажем так. Впрочем, и сейчас не люблю… А пропуска на встречу доставал Максим, который уже тогда имел очень широкие контакты в неформальской среде и знал многих из участников встречи. П.: Ты сказал о том, что не услышал там “никаких радикальных вещей”. А разве Новодворская, Кузин, Скубко их там не произносили? Д.: Не помню… Но в любом случае, это был не тот радикализм, которого я ждал. Я имел в виду, что там не было ни сторонников, ни потенциальных сторонников социальной революции. П.: Тебе есть что рассказать о ходе встречи неформалов? Д.: Ты знаешь, ничего, ну совсем ничего не отложилось, кроме общего ощущения, о котором я уже сказал. И осталось впечатление: это - не моё. П:. Но, может быть, вспомнишь об участии в ней кого-то из обладателей фамилий, известных тогда или сейчас? Д.: Запомнились Кагарлицкий, Игрунов, Пельман, Румянцев, Кудюкин. Там же я впервые увидел будущих лидеров КАС Исаева и Шубина… И четко запомнился раскол на два лагеря – либеральный и социалистический. Были составлены соответствующие декларации, и различные группы неформалов стали присоединяться к первому или второму блоку. А некоторые – к обоим сразу. Некоторые группы “провозглашались” прямо там же, в кулуарах. Кажется, наш “фронт” официально также “оформился” там же… То есть, первоначально он был, видимо, просто “вывеской”, благодаря которой на эту встречу могли попасть различные “неорганизованные” неформалы. А потом он взял – и “заработал”. Правда, ненадолго… П.: Что было потом? Д.: Поскольку на той встрече неформалов я не услышал ничего, что могло бы внушить мне надежды, то я стал искать выход на другие клубы или группы… Скажем, где-то, уже, кажется, в 1988, забежал как-то на клуб “Демократическая Перестройка” в ЦЭМИ… Всё то же… И больше не тянуло. В конце 87-го – начале 88-го меня, помнится, больше всего интересовал Всесоюзный социально-политический клуб (ВСПК). Это было достаточно пестрое и рыхлое объединение клубов левой ориентации – преимущественно марксистских. Я был на конференции ВСПК в Москве. (Вероятно, это была третья конференция в январе 88 года). Она проходила в помещении школы где-то неподалеку от метро Академической и улицы Красикова. П.: Это не 45-я математическая спецшкола на улице Гримау, которую потом активно использовали для своих встреч социал-демократы? Д.: Я не знаю. Тогда гости не очень-то спрашивали. Это выглядело так: собираемся, идём. Ощущение какой-то полуподпольности, полуопасности, и особо не интересуешься: что, где? Перестройке-то сколько лет тогда было? Чувство свободы тоже ведь сразу не приходит. Всё-таки пока ещё за радикальные идеи могли и посадить. Поэтому особо вопросов не задаёшь. Пришёл? Да. Ну, сиди и слушай. А вот так вот просто к человеку подойти и спросить: “А ты кто? И куда мы идем? И как вы это организовали?”, вроде как-то неудобно. Потому как, а чёрт его знает, может, человек себя не афиширует. Учти, что я к этому моменту ещё не вёл никакой кружковой работы, и у меня не было никакого соответствующего опыта… Итак, конференция ВСПК. У меня где-то сохранились записи, которые я там пытался вести, обращая внимание на выступления людей с мест и пытаясь найти в них что-то близкое себе. Но никаких перспективных людей, с которыми можно бы было обменяться контактами и плотно работать, я там не нашёл. В ВСПК тогда сложилось два крыла – марксистско-ленинское (тем не менее, оппозиционное по отношению к КПСС) и социал-демократическое. Второе с его идеями хозрасчёта и – как следствие – роста социального неравенства – я отмёл сразу. Но и ленинизм мне уже тогда не нравился. Экологическая проблема ленинистов, естественно, не интересовала. Она была за пределами и сферы их интересов и, вообще, всей их системы координат. Ленинисты являлись сторонниками авангардной партии, то есть классической жёсткой партийной формы. И ориентировались они, прежде всего, на государственно-капиталистическое общество, против которого я выступал. Так что, в общем, всё это было для меня совершенно неприемлемо. Правда, мне казалось, что, может быть, с какими-то отдельными людьми мне удастся завязать контакты и где-то что-то найти. Поэтому позже в Москве я общался с людьми из “Московской группы ВСПК”, сформировавшейся вокруг Калымова, который издавал журнал “Рабочий путь”. Они хотя и были ленинистами, но много говорили о рабочем самоуправлении. Что ж, самоуправление было мне симпатично. Но поколебать железобетонный ленинизм этих людей оказалось совершенно невозможно. К тому же мне очень не понравился страсть обличать масонов на страницах журналов… Дурно это пахло. Понятно, что контакты быстро сошли на нет, и я вскоре потерял Калымова из виду. Скажу в скобках, что и позднее я время от времени пытался найти среди марксистско-ленинских активистов более свободно мыслящих людей, которых можно было попытаться побудить перейти на новые левые позиции. Весной 90 года я (уже как представитель Партии зелёных) даже пришел в качестве наблюдателя на учредительный съезд Марксистской рабочей партии, который проходил на ВДНХ. Но всё, увы, было бесполезно… Более многообещающим оказался контакт с левой группой из Гомеля. На съезде ВСПК она была представлена человеком, чье имя я сейчас уже, к сожалению, не помню. Он занимался вопросами солидарности со странами Латинской Америки – вещью тогда довольно популярной в левой среде. Позднее он отошел от движения, и контакт развивался с другими людьми из этой группы, особенно с будущим активистом белорусского анархизма (а сейчас – белорусским эсером) Юрием Глушаковым… В конце 87-го года я начал издавать (тиражом пять экземпляров) свой собственный машинописный журнальчик – “Новое левое обозрение” (НЛО). В нём я печатал переводы западных новых левых и экосоциалистических статей и мои собственные статьи и заметки. Писал я о том, что и государственное централизованное планирование сверху, и рынок разрушают окружающую среду, потому что в одном случае первичными оказываются интересы бюрократических ведомств, а в другом - интересы прибыли. А интересы людей и интересы природы оказываются второстепенными. В обеих системах (или это две разновидности одной системы?) считается, что эти интересы должны сами собой удовлетворяться через “нормальное” функционирование экономики. Чего, однако, не происходит, и получается точно наоборот. Значит, обе модели нехороши. Нужна другая. Какая? Модель экологического и коммунитарного социализма, основанного на всеобщем самоуправлении. П.: Расскажи про этот журнал: как долго он издавался, вырос ли за это время его тираж, почему он прекратил своё существование? Д.: До начала 89-го года я сделал, помнится, четыре или пять номеров. Сейчас уже трудно сказать точнее, потому что ни одного не сохранилось. (Я всё роздал.) А увеличить тираж не было никакой возможности. Как говорили оппозиционеры в советское время, “Эрика” берет четыре копии. У меня не было “Эрики”, а был некая примитивная печатная машинка, механическая, а не электрическая, и от каждого удара по клавишам она содрогалась, как в экстазе. Но пять экземпляров я из неё выжимал… Правда, последний читался уже очень плохо… Вернемся к тогдашним контактам и турне по “левой сцене”. Примерно тогда я набрел и на семинар, который устраивали, помнится, Грязнов, Элиович и Майсурян. Узнав, что я много читал о Франкфуртской школе, организаторы пригласили меня выступить на нём с докладом на эту тему. Оказалось, что они и сами очень интересуются этими идеями. Доклад прошёл “на ура”, мне задали массу вопросов, состоялось очень интересное обсуждение. Я уже было думал, что нашёл тех людей, с которыми можно будет создать организацию в духе новых левых. Но позднее оказалось, что на семинар зачастила Новодворская, и позднее “кружок Грязнова” влился в Демсоюз, точнее, в его “еврокоммунистическую” фракцию. Я счел, что эти люди для нового левого дела потеряны. В Демократическом союзе мне делать было нечего. Прежде всего, в нём преобладали сторонники частного капитализма, который для меня был ничуть не лучше капитализма государственного. К тому же, ДС ориентировался на политическую борьбу, и экология его мало интересовала. П.: Кстати, уже состоя в Демсоюзе, Элиович и Грязнов продолжали участвовать в работе какого-то философского кружка, который возглавлял довольно-таки крупный бородатый парень... Д.: Вот у них, по-моему, и был какой-то дискуссионный кружок философского плана. Но тот же самый или нет, я не знаю. После их ухода в ДС у нас долго не было никаких контактов - примерно до 91-го года… П.: А когда происходили ваши встречи? Д.: Это можно попробовать вычислить. Когда был создан Демсоюз? П.: В мае 88-го. Д.: Значит, это было, видимо, в конце 87-го или в начале 88-го года. П.: А заседания проходили, видимо, у кого-то из них на квартире? Д.: Возможно. Хотя подожди... Боюсь соврать, но, по-моему, это была какая-то аудитория. Но утверждать не буду. Дело в том, что мне казалось, что народу было не так мало, поэтому, по ощущению, это не должна была быть квартира. Хотя...
НАЧАЛО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МОСКВЕ 1988-й год стал временем мощного подъема экологического движения в Москве. В это время в московских кварталах и микрорайонах появлялись экологические комитеты, экологические группы, которые первоначально занимались экологической проблематикой, а потом постепенно от неё переходили к проблемам местного самоуправления. Очень часто вокруг этих комитетов формировались инициативные группы, которые собирали общие собрания жильцов и на них начинали формировать комитеты самоуправления, структуры самоуправления до уровня домов, подъездов… То есть начинал, как мне тогда казалось, вырастать контур нового общества всеобщего самоуправления, почти что – структуры “контр-власти”. Я помню атмосферу, которая была на этих общих сходах, помню заинтересованность людей в том, чтобы самостоятельно решать свою судьбу, и помню свой тогдашний энтузиазм. В одном из проектов документов такого местного комитета самоуправления я видел даже предложение о том, чтобы комитет стал распорядителем всей государственной собственности и инфраструктуры, которая находилась на его территории. П.: Прости, но выше ты отнёс появление первых экологических групп к 86-му и 87-му годам... Д.: Да, первые группы появились где-то в 87-м году. На 88-й и 89-й годы пришелся, я думаю, пик движения, когда проводились крупные митинги в центре Москвы. (Помню даже флаг на одном таком митинге: красный конь на зеленом фоне.) Я ходил на встречи этих экологических групп, и помню, что наибольшую активность проявляли группы из московских районов Братеево, Битца (боролась за сохранение лесопарка) и Тушино. В каждой из них было не меньше тысячи человек. Тогда стали проводиться регулярные встречи представителей экологических групп Москвы, на которые приглашали и меня – как индивидуальное лицо, человека, которого можно было считать специалистом по экологическому движению. Ведь я мог рассказать про опыт западных экологов и зеленых: про опыт организации экологического движения, его идеологию, его акции. А это могло быть очень полезно людям в борьбе здесь. Я решил, что могу поставить свои знания, информацию, полученные в процессе работы над диссертацией, на службу общественному движению. Это было просто здорово. И это было очень интересное для меня время! Не без моего скромного участия родилась идея создания общемосковской федерации экологических групп – Московской экологической федерации (МЭФ), которая официально появилась в августе 88-го года. В МЭФ вошло более пяти десятков групп. Я убедил участников, что в федерации, как и в экологических организациях Германии, не должно быть никакого единовластия, не должно быть одного председателя. Нужно создать федералистскую структуру с коллективным президиумом и собранием делегатов от групп. В итоге были избраны три сопредседателя. Двое из них представляли группы, а третьим был я – единственный, кто не имел собственной группы, но был избран именно как индивидуальный активист, как человек, разбирающийся в международном опыте зеленого движения. Двое других сопредседателей были из Братеева и Тушино. П.: Помнишь их фамилии? Д.: Нет. П.: Значит, это - не Друганов? Д.: Друганов! Друганов! А вторая - мама Лики Галкиной, если знаешь такую. П.: Знаю. В таком же интервью мне Прибыловский упоминает маму Лики - Любовь Рубинчик. (См. гл. АВГУСТ-87 И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ, - АП.) Д.: Вот! Московская экологическая федерация (МЭФ) занялась сплочением и объединением экологических групп в Москве, из которых в какой-то момент стали вырастать комитеты местного самоуправления. И МЭФ стал достаточно мощной и влиятельной структурой. Впрочем, говорить о ней как об организации было ещё рано. Она была, скорее, зонтиком для разных инициатив, клубом - как, наверное, все тогдашние неформальные структуры. Но это был клуб с серьёзными завязками на местах. А заседал Совет МЭФ, то есть мы с представителями групп, как сейчас помню, в здании Комитета защиты мира, где размещалась и ещё одна экологическая организация. В МЭФ я пытался пропагандировать новые левые идеи и стремился распространять в нашем движении опыт экологического движения Запада. И, в первую очередь, убедить людей в приоритетной необходимости именно протестного внепарламентского действия. Период моей наиболее активной деятельности в МЭФ пришелся на 88–90-й годы. Подошли выборы: в местные органы власти, в Моссовет, на съезд народных депутатов, и многие экологические группы возжелали в них участвовать. Я уже тогда испытывал тягу к анархизму, но ещё не был принципиальным сторонником полного неучастия в выборах (поскольку тогда ориентировался на опыт западных зелёных). Тем не менее, повторяю, я был убежден, что главное - это массовое непарламентское движение. А парламентское представительство, как говорили тогда западные левые зелёные, может в лучшем случае служить своего рода парламентской “рукой” экологических инициатив, прикрывать их, способствовать расширению для них сферы действия, свободного пространства – того поля деятельности, которые это альтернативное движение должно заполнить. Вот эту позицию я пропагандировал в МЭФ и в ходе встреч с различными экологическими активистами. Но, надо признаться, эта идея проходила туго, потому что люди были полны парламентских иллюзий. Хорошо помню, как я тогда дискутировал с одной женщиной из какой-то подмосковной экологической инициативы, которая потом, как и многие, исчезла из экологического движения. Я забыл, как ее звали, потому что дело не в ней, а в том, что у неё была довольно характерная для тех времён позиция, которая мне именно поэтому-то и запомнилась. Она сказала: “Если приоритет внепарламентских действий, то зачем тогда мы это всё делаем?” То есть многие люди воспринимали экологическое движение как некий трамплин для того, чтобы пойти во власть и там осуществлять реформы. Когда некоторые активисты МЭФ предложили мне тоже баллотироваться в Моссовет, я сказал: “Не хочу участвовать в укреплении и реформировании системы, которую хочу разрушить. Для меня это неприемлемо. Я лучше останусь внепарламентским активистом движения и буду защищать примат именно непарламентских действий”. П.: Ты ничего не сказал про выборы 89-го года, тоже очень важные. Какую по отношению к ним позицию занимал ты и твои товарищи? Д.: Так, выборы в Моссовет - это какой год? П.: Весна 90-го. Д.: Значит, 89-й - это выборы на Съезд народных депутатов? П.: Да - СССР. Д.: Нет. Никакого отношения мы к этому не имели. Хотя лично моё отношение к выборам тогда было ещё не столь жёстким, как впоследствии, когда я категорически стал отвергать вообще всякое участие в выборах. Позиция была следующая, заимствованная у экосоциалистического крыла немецких зелёных: главное - это внепарламентские действия, но если удастся кого-то провести, то, может, оно будет и не плохо. Потому что почему бы массовому движению и не иметь парламентскую «руку». Но лично для себя я уже тогда решил, что это мне не интересно и что я не хочу во всём этом участвовать. (Мне интереснее строить движение внизу.) Поэтому я во всех этих электоральных процессах участия не принимал. ...Судьба экологического движения конца 80-х годов, к сожалению, оказалась печальной, хотя на какой-то момент по широте охвата, по количеству комитетов самоуправления, по числу людей, которые в нём участвовали, оно достигло даже более крупных масштабов, чем аналогичное альтернативное движение на Западе - например, в той же Германии. Но продолжался этот подъем недолго, потому что дальше получилось следующее... Многие экологические активисты в Москве пошли во власть, где они естественно, стали идти на компромиссы с тогдашними московскими властями. А в московской власти люди были хитрые - Гавриил Попов и его заместитель Юрий Лужков. Они говорили комитетам самоуправления: “Хорошо, мы вас даже признáем и дадим вам некий кусок пирога. Но при одном условии - вы свой экологический радикализм спрячете куда-нибудь подальше”. Вот тогда во многих комитетах самоуправления и прошла разделительная линия. Часто случалось так, что их создатели, которые стусовались вокруг экологических проблем и инициировали группы, из которых выросло потом движение самоуправления, оказывались затем в оппозиции по отношению к тем “лидерам” комитетов, которые ушли во власть и стали стремиться эти экологические требования усмирить, притушить. Получалось так, что первичная группа инициаторов часто оказывалась выброшенной из движения. А дальше бывало так: эти экологические группы становились все меньше и постепенно растворялись, исчезали. А те, кто прошёл во власть, получили потом посты в районных администрациях, муниципальной системе. Ну и всё. Общие собрания жильцов переставали собираться, и структуры рухнули. Никто уже не создавал никакие домовые комитеты и уж, тем более, подъездные. При отсутствии общих собраний какой-то реальный контроль массы за этими представителями, которые заседали в президиумах, комитетах самоуправления или шли во власть, был невозможен. Те уже стали делать, что хотели, всласть играли в свои властные игры. И движение рассыпалось. Начиная с 91-го года никакого реального экологического движения или движения за самоуправление в Москве не было. Было просто политическое движение - за Ельцина или против Ельцина, за “демократов” или за “коммунистов”. Короче, движение политизировалось (как мы тогда говорили, ложно политизировалось), то есть включилось в борьбу между различными бюрократически-номенклатурными фракциями, и исчезло. П.: Я возражу тебе: первое существенное решение, принятое летом 90-го года новым составом Моссовета, касалось как раз прекращения строительства Северной ТЭЦ. Как видишь, парламентский путь позволял тогда настоящим экологам добиваться принятия важных решений. (Революционерам, использующим экологию как прикрытие для своей экстремистской деятельности, это было не по силам.) Кстати, как только с парламентаризмом в Москве было покончено, так сразу же правящая в столице строительная мафия протолкнула решение о возобновлении строительства Северной ТЭЦ... Д.: Ну, конечно, куда уж там всяким "экстремистам"… Вот только одна маленькая деталька, совсем незначительная такая… Если бы не низовые инициативы и не тысячи людей на митингах в предыдущие годы, то вряд ли бы господа депутаты в массе своей вообще почесались. Нет уж, народ может чего-то добиться от власти только в одном случае: когда она его боится. А в начале 90-х годов этот страх власти перед народом прошел: теперь Попов мог открыто говорить, что Москва должна стать "городом для богатых"… Беседовал Алексей Пятковский. 17 октября 2007 г. Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
|||||||||||



