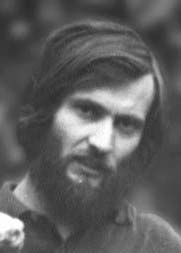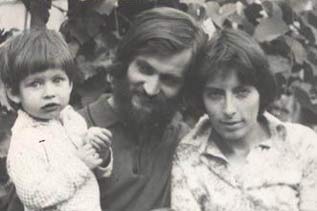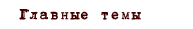
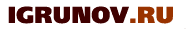 |
|
Текст магнитозаписи разговора
Игрунов: Вернемся к вчерашней проблеме. Мы говорили о том, что разговор о Компромиссе[1] исчерпал себя, все это бессмысленно. Компромисс дискредитирован во всех отношениях. Призыв найти какой-то общий язык с государством полностью дискредитировал себя в той среде, в которой мы общались – это раз. Во-вторых, он вызвал отрицательное отношение со стороны государства, как любое неконтролируемое течение мысли. С третьей стороны, есть и противоположная тенденция: мы лично в каком-то смысле от этого выиграли. Т.е. те люди, которые предлагали этот компромисс… Павловский: …Вызвал отрицательную реакцию. И.: Ну конечно. Вызвав отрицательную реакцию, они сами, тем не менее, кое что из этого приобрели. Твоя судьба, в общем-то, сносная после «Поисков»[2], - Сокирко[3], и вот: благоденствующий я. – Тем не менее, склад моего мышления и моего характера таков, что я могу работать только в том случае, если перед моими глазами есть какая-то утопия. … Рассыпались одни утопии, но взамен их возникали другие. Собственно говоря, возникновение новых утопий у меня всякий раз приводило к уничтожению старых, а не наоборот. – Одна утопия вытесняла другую. После разрушения идеи Компромисса, как я себе представлял, передо мной – пустое поле, у меня карт бланш… Мне снова нужно делать выбор, мне нужно приобретать утопию: утопии нет… Когда я говорил о Компромиссе, я приблизительно представлял себе, что я собираюсь делать, как я намерен существовать… В настоящий день все предпосылки Компромисса уничтожены. Правда, когда мы говорили о Компромиссе, была и такая цель: нам нужно чтобы государство, оставаясь стабильным, позволяло нам быть собой, т.е. сохранять свои убеждения. – Притом что я лоялен, я сохраняю свой образ мыслей, я сохраняю свое право читать любую литературу, знакомиться с любой информацией… общаться с любыми своими друзьями, будь то Сахаров, Богораз[4]… Другими словами: уровень Компромисса предполагал сохранение самих себя как мыслящих существ. - Не конформизм, не адаптация путем отказа от себя, а – наше признание лояльной позиции и «их» согласие на то, что при этом мы можем оставаться кем угодно. П.: И все же это было утопией? Не в оценочном, а в строгом смысле?.. И.: Отчасти – да. Скорее всего, да, хотя я и добивался этой цели. Фактически, я рассчитывал на то, что за мной останется багаж Движения[5] – т.е. всеобщие отказы за которые мы приобретаем право жить в этой стране и работать в этой структуре. Но этот багаж, который должен быть нашим исходным материалом, - разрушен, и разрушен безо всякого плода нам. Наш личный итог заключается в том, что мы в каком-то смысле принадлежа к этому Движению, для себя персонально открыли ту возможность, которая… П.: … Которую мы закрыли для других. И.: Да, она теперь закрыта для других. И я не вижу перед собой дальнейших шагов. В каком-то смысле, мы социализированы. Я, например, работаю в той структуре, куда я стремился. – Поступить на работу, закончить институт и делать карьеру, - к чему я еще стремился?.. Это предпосылка работы, предпосылка Компромисса. Для меня лично он начал осуществляться. Лично для меня задача решена. Но, поскольку она полностью закрыта для других, сам смысл Компромисса исчез, и о нем дальше говорить нечего. – что же дальше? Какова цель моей деятельности? Просто социализироваться означало бы смерть… да и не по характеру. …Где поле моей работы? И где – твое? Я не уверен, не знаю, существуют ли для меня эти проблемы. Обычно тебя волновало более злободневное: ты хотел выяснить те или иные вещи прежде, чем строить утопию. У меня утопия предшествует анализу. Производя анализ, я ориентируюсь на нее. – У тебя происходит наоборот: сперва ситуация, а потом… - Строил ли утопии? Мне трудно сказать. П.: На деле я вполне «утопический человек», утопия для меня – необходимое условие деятельности. Но я понимаю, из-за чего ты в этом сомневаешься. В период, о котором ты говоришь, такой рабочей утопией, исключающей потребность в особой, личной – было само диссидентство. И.: Я не очень это себе представляю… П.: С конца 1975го, собственно, вскоре после твоего ареста, Движение превратилось для меня в такую живую, фактическую утопию, заменив в этой роли марксизм. Оно снимало с мене груз вопросов, типа – на какой почве я мыслю, ради чего мы действуем… Предполагалось, что эти вопросы уже «решены». Решение таково – я внутри диссидентства, как его критик. Критика извне отвергалась как аморальная. Находясь внутри Движения, и при этом его критикуя, я мог разрешить себе разделять его ухватки, его злобу дня, его максимализм. И.: Но ты же постоянно отделял себя от Движения: всякие там «почему я не диссидент» и т.п. – Сомневаюсь, чтобы твой максимализм мог быть назван нравственным. Он шел скорее всего от марксизма, а не от Движения: как стремление обосновывать некоторые вещи теоретически. «Нравственность иррациональна, а у тебя она шла от головы: вопросы об идеалах, о будущем человечества… я не говорю о твоей личной жизни, это совсем другое дело. П.: …Я соглашусь с тобой в одном: до 1981 года вопрос о проекте, о необходимости для меня личного проекта – не стоял. Летом 1981го года, в разгар разрушения прежних установок, их перестройки, у меня впервые появился некий утопический проект, и я это осознал. … Ты помнишь, это связано с работой Печчеи[6], Римским клубом, его глобалистикой – и вдруг открывшимся во мне вкусом к политической стороне всего, что мы делаем. «Диссидентство и политика» - эта тема прежде меня не интересовала. – Тут вдруг все изменилось… И.: … И именно Печчеи! П.: При чем здесь, в сущности, Печчеи? И.: Но именно после этого начались твои разговоры о политике. И не от тебя я впервые услышал, а от твоих друзей, с возмущением говоривших о твоей «политизации». П.: Печчеи меня поразил догадкой – что в совершенно беспросветной ситуации (как раз такой, как была моя личная в дни, когда я на него набрел), и при этом имея своими сотрудниками людей, чужих тебе по духу, я нелепыми на твой взгляд идеалами – можно искать путей, чтобы совместно ставить цели и вести работу, чтобы этих целей достигнуть. Во-вторых, установка инициаторов Римского клуба мне оказалась странно близка – что работать надо во всяком случае и в любых условиях, а условия у нас могут быть только… И.: … Принцип лягушки в сметане. Печем рассматривает совершенно безнадежную мировую ситуацию. П.: да! – Примерно так: ситуация безнадежна, ребята, - давайте действовать! Этот «деловой пессимизм» глобалистов я проецировал на нашу внутреннюю ситуацию. Движение было моим «глобусом». Действующее лицо моей глобалистики – диссидент на руинах Движения. Тогда и встает проблема государства, взаимоотношений с государством, существующим независимо от нас… - Как образ мыслей, это живо для меня до сих пор, ты знаешь: как стиль поведения – это кончилось для меня 1982м годом. - Потому что моя «утопия» была наполовину утопией, а наполовину интригой. Едва возникшую утопию я попытался тут же использовать, соединить с прагматикой: напрямую, немедленно и тут же! Результатом была интрижка. Теперь мне это кажется худшей из моих ошибок… И.: Например, письма в защиту Томачинского[7]..? П.: Нет, а моя предпринимательская деятельность среди осколков разбитого Движения. И.: … Ну, здесь насчет интриги я готов согласиться, но как это связано с утопией? – Допустим, есть Движение… П.: Его нет. В первую очередь, есть государство: огромная, весьма сложная машина, которая, однако, плохо работает. И есть еще то, что еще оставалось тогда от Движения - чем не потенциальная пристройка к государству, как я тогда сказал бы – «дополнительный контур»? - Свою задачу я и находил в то, чтобы превратить Движение в такую пристройку к государству… И.: Чтобы оптимизировать его работу? Но мне непонятно, как это делается… П.: Очень просто, как мне казалось! Но для моих планов, так же как и для твоей утопии – мне необходимо было работающее действующее Движение. Меня не устраивало то, что оно кончается! Во всяком случае, следовало его активизировать, попутно заменив его прежнюю утопию – на мою «конструктивную». Традиционный диссидент не мог, разумеется, быть пристроен к государству – для этого он должен был стать политиком и прагматиком. Соединяя эти несоединимые цели, тут уж мне пришлось идти даже не на интриги, а… имитацию… даже просто – мистификацию! И.: За которые ты и принялся! П.: Да, тогда же. Поскольку моя утопия была так близка к интриге, а мои цели выходили за всякие рамки позволяемого и государством, и диссидентами – я должен был скрывать главные моменты имевшегося у меня плана, и более всего скрывать, что я являюсь единственным носителем этого плана, что ниточки из разных мест тянутся ко мне! … Пойми это диссиденты, меня бы смешали с грязью, а узнай только государство, меня бы стерли в порошок. – Так я стал мистификатором. И.: …Ну, вычислять тебя, положим, вычисляли многие… А персонификация своих утопий – обычная вещь. Я тоже персонифицировал собой все свои утопии. Я, как действующая фигура – центр своих утопий! П.: Это естественно. Это приходится учитывать и вносить на это поправку. – Но я-то этого не делал! … и притом лихорадочно искал то, что я делал, сегодня не назовешь даже социализацией, а тогда я нагло именовал это – «инкорпорацией». Назовем вещи своими именами: я искал доступа в коридоры власти, даже если ради этого придется кое-чем пожертвовать. Чем именно? Я тогда не хотел уточнять, но как бы наперед «был готов»… И.: «Не знаю к чему, но готов»! П.: Да, именно так. И эта априорная готовность жертвовать не только предшествовала способности «инкорпорироваться», но сильно, сильно ее превосходила! И.: Не думаешь ли ты, что это-то и сыграло большую роль в случившемся позже, в 1982 – 83 гг.? П.: …Важнейшую. К тому и веду, и неприемлемым в тогдашних своих делах считаю эту вот попытку прочесть политически то, что политически не прочитывалось. На самом деле, поворот 1981 года назрел давно. Я устал жить во внутренней разрухе, наступившей после конца «Поисков». – Но я сам не понял, на что я набрел, куда поворачиваю, и у меня не было языка, на котором я смог бы говорить об этом с самим собой честно. В новых идеях я увидел практические возможности, и ухватился за эту прагматику. Конечно, то был прагматический прагматизм. Утопия оптимальности при сохранении нетленными… И.: Идеалов… П.: Идеалов? Я боюсь этого слова, как огня! И.: …Проекта..? П.: Личностей! Главным для меня была достигнутая в Движении степень нравственного развития, личностной независимости. – Особенно последней, вот она-то и должна быть сохранена! Ею ни за что нельзя поступаться. И.: В таком случае, я не понимаю, что это значило бы реально? П.: Убеждение мое было в следующем: что я, как и люди Движения вообще – идя на любые компромиссы, даже просто на сделали – не сможем себя потерять, что мы на это просто уже не способны. – Слишком далеко зашло развитие личности, «индивидуализация», независимость стала привычкой. Что было прежде, в 50-х годах? В 60-х? «покаявшийся» человек автоматически прекращался как личность даже в собственных глазах. Он уже никогда не мог восстановить свое достоинство. – А в 70-е намечается сдвиг к необратимости личных начал: ты не можешь от них никак избавиться, даже смешав себя с грязью. – Не выйдет! …Так я полагал тогда, в частности, под впечатлением «варианта Сокирко». И.: Я думаю, то, о чем ты говоришь, происходит не в порядке развития личности, а на фоне утери своего потенциала, который достигнут и поднимает человека из аморфной массы. Иными словами, я связываю это никак не с развитием, а скорее со стремительно падающим фоном. – Если нравственное падение прежде наотмашь отвергалось, то сейчас в Движении не хватает духовного потенциала, чтобы держаться на расстоянии… Правда, забота о дистанции также характеризовала средний уровень Движения – тех, кто боится утратить свою стойкость, свою чистоту. Когда люди обладают этой чистотой внутренне, они не боятся сблизиться с теми, кто «раскаялся»… П.: Я говорил о самосознании отступников, а ты – об отношении к ним: это другое. Я не об общественном мнении говорил. И.: Понимаю тебя. Эти вещи очень связаны: самосознание здесь проходит через отражение в сознании окружающих. Оно – связанное, групповое: самооценка – итог самооценок! П.: Это марксизм. – Чтобы длинно не говорить… И.: Ну… я хочу сказать, изменение внешней ситуации более определяет здесь личность, чем внутреннее развитие. Такая ситуация обратима, и она будет, по мере развития Движения, вести к падению нравственного уровня. – Если не касаться отдельных людей, а говорить о среднем интеллигенте, я думаю, регресс неизбежен. П.: Принимая твой «социальный» подход, я бы стал говорить не просто об изменении фона Движения, но о перемене Общественного фона. – Принадлежность к некоторой среде перестает измерять человека в собственных его глазах. Оказавшись вне среды и претерпев какие-то ломки – причем неизвестно, пойдет ли он потом вверх или вниз – он может остаться в составе человечества, не выбывшим из «морального большинства»… И.: …А прежде этого не могло быть. Оценка среды была столь категоричной, что создаваемый ею дискомфорт лишал возможности действовать, работать: сегодня этого дискомфорта нет! Авторитет среды и нравственный потенциал оценки упали настолько низко, что дискомфорт недостаточен, чтобы выбить человека из колеи.
2.
И.: Итак, вернемся. – Частично свершившаяся Утопия лишила меня всякой перспективы. Я оказался оторван ото всего, что я делал в последние 15 лет. Поражение заключалось в том, что я не знаю, что делать. Я по инерции движусь в том, прежнем мире, по инерции я работаю, по инерции стараюсь поступить в институт, по инерции реализую то, что когда-то было Утопией… ... Но осознавать ценность этого? Ее нет. Я не вижу даже простой возможности продолжения. П.: Постой. – Когда ты говоришь, «Компромисс потерпел поражение», считаешь ли ты и веришь ли ты, что ты сам потерпел поражение? И.: Да, я это очень хорошо чувствую. Для меня идея компромисса связывалась с тем, что я сумею переломить ход Движения – и оно, оставаясь работающим, сможет стать «пристройкой» к государству – именно в качестве себя самого. Где-то в начале 70-х, в 73, 74м году я вдруг ощутил, что это пробивает себе дорогу: и тут, как раз на этом я был арестован. – Я отсутствовал, и вот… Вот «Память» – реализация в лучшем виде того, что я хотел: анализ самих себя, восстановление памяти, восстановление зрения – не просто деятельность, а деятельность самонаблюдения… - Другое: уже не стали так резко относиться к словам «сотрудничество», «компромисс» - эта резкость пришла позднее, начиная с «Поисков» П.: Ну не с «Поисков» же! – Резкость могла усилиться при обстоятельствах прекращения «Поисков» и всего, что случилось потом. И.: Еще в 1978 году я пришел в ярость, потому что был убежден, что издание «Поисков» приведет к полному уничтожению готовившегося в Одессе «Альманаха»[8], а потом к уничтожению самих «Поисков». И эта первая реакция предопределила мою оценку «Поисков». Далее. Я беру в руки «Поиски»… Идея Компромисса предполагала то, что всякое издание, нацеленное на Компромисс, в первую очередь не станет красной тряпкой для государства. – Как я формировал «Альманах»? Я брал стихи украинцев: но ни в одном из них не было политических оттенков (м.б. что-то такое проблескивало в некоторых навязанных мне стихах – и то, я строго выбирал все, что можно было сделать чисто лирическим. … Опять-таки Галич. – Когда я помещал Галича, я не давал никаких политических оценок! Просто бытовой разговор человека. Человек о человеке в кругу друзей… Дальше, Померанц[9]: не публицистика, а философская статья… В таком вот направлении: без всяких раздражителей. «Поиски» же обратились к процессам!.. к одному, другому… За тем статьи, прямо направленные на конфронтацию – параллельно, скажем, со статьями Сокирко!.. которые сами по себе не отработаны в духе Компромисса, и сами по себе для государства достаточно проблематичны… А они отягощались сугубой публицистичностью остального материала. И даже стихи! Стихи «Поисков» - скажем, тот же Серебров, или Витя Некипелов[10]. Даже когда мы переходим к литературе, она политически направлена: то, чего следовало избегать… П.: Следовало избегать с твоей точки зрения… И.: Да, вне всякого сомнения, с моей точки зрения. Более того, когда я мыслил себе всесоюзное издание «Альманаха»… а оно бы преследовалось, поскольку всякое независимое издание будет преследоваться… то никаких материалов о преследовании в самом «Альманахе» я бы не допустил, их не должно быть категорически. – Пусть они будут где угодно: в «Хронике»[11], в «Вестниках»[12], в газетах… «Поиски» пошли по другому пути. П.: Да, и сознательно. И.: Конечно, сознательно. И это вызывало у меня крайнее сопротивление. Затем вы стали в максимально резкую позицию, в позицию диссидентов – а у диссидентов есть и такая позиция, как компромисс… Но в начавшихся преследованиях вы не выдержали даже эту позицию! Если б вы выдержали это сопротивление до конца – я бы признал «Поиски». Но вы не выдержали, т.к. изначально «Поиски» делались теми, кто не мог быть диссидентом. – Сокирко не мог быть диссидентом, ты не мог быть диссидентом… Один Валера и старики не решают. – Вот поведение Абрамкина[13] и логическое продолжение «Поисков», и к нему я этой претензии не предъявляю: потому что Валера – не человек Компромисса. Ему нужно было издавать журнал, ему нужно было поле деятельности, и он его нашел… П.: Я думаю, ты ошибаешься, включая Валеру в одну обойму с Петром Марковичем Егидесом… И.: …Ни в коем случае, я этого не делаю!.. П.: …А кто же тогда и диссидент, если Петр Маркович Егидес[14] не диссидент?! И.: Я тебе скажу: диссидент – это Лариса Богораз… П.: …Много же ты наберешь тогда диссидентов… И.: Это Великанова, - она ничуть не на почве Компромисса, но вполне способна его мыслить… или, в другом, Татьяна Сергеевна Ходорович[15]… П.: Знаешь, Вячек, тогда: «Что такое легковой автомобиль? – Это «Кадиллак»! И.: Нет, нет, нет. Глеб, это не совсем так. Но давай вернемся к оценке «Поисков». С одной стороны, они внесли раздражение: какой м.б. Компромисс, когда вы пишете о суде над Гинзбургом[16]? О каком Компромиссе речь, если вы издаете это за границей? – Государство не готово к Компромиссу, значит, следовало его убедить – и жертвами, с одной стороны, и сдержанностью, корректностью – с другой, - убедить, что это, в принципе, реальная вещь. В то же время, «Поиски» ничего не дали среди диссидентов, уже не самим фактом своего издания, а послесловием: словом, процессами. Еще когда не прошли ваши процессы, в Москве мне говорили вот что: да, Компромисс… правильно, очень хорошо, но вот какая странная вещь: все, кто становился на путь Компромисса, кончали предательством. …И это еще до ваших процессов. – Надо было убедить Движение, людей, что это не так. П.: Вячек, ты будто не о нас говоришь. – Никто в «Поисках» поначалу не ставил себе Компромисс целью. При создании журнала ни понятия такого не было, и словом не пользовались. Никого это в 1978 году не интересовало, в том числе и Сокирко, на которого ты ссылаешься. – Он пришел в «Поиски» с экономической дискуссией, в которой максимализму диссидентов он противопоставлял собственный максимализм «общественной выгоды»… И.: …Я помню. Но дело в том, что я начинал работу именно с Компромисса… Да, для вас это было саморазвитием, допустим – но для меня это было разрушением идеи! П.: Что пожелаешь? – Характерно, сегодня почти каждый из редакторов считает именно себя основоположником журнала… и каждый «прав», т.к. он-то помнит о том, что как раз в то время у него сложилась идея издания чего-то подобного, каждый к этому пришел от чего-то своего… Раиса Борисовна, я, Егидес… - И даже ты, не издававший «Поисков», всегда относишь себя к отцам-основателям… И.: А Валера Абрамкин? Он имеет очень большие основания. Когда я говорил с ним об «Альманахе», он мне прямо предложил: давай издавать вместе! – Он сам был настроен на нечто вроде «Поисков». Но я отверг это и сказал: подожди. Подожди, - мы начнем работать, а там посмотрим… Ибо для меня главное была идея Компромисса, а для Валеры – журнал. И начинал-то я не с «Альманаха», вначале было заявление «Группы содействия культурному обмену»… П.: Для меня это абсолютно разные вещи. Видишь, каждый помнит свое. Это о чем-то говорит. Идея Группы вовсе не обсуждалась в том кругу, где готовился журнал. Переход от первого ко второму – факт твоего сознания. «Поиски» – встреча людей, идущих из разных мест в разных направлениях. И.: Проект журнала я обсуждал и с тобой, и с Гефтером[17], и с Абрамкиным… А если бы не Раиса Борисовна Лерт, с ее опытом «XX-го века»?... П.: Бесспорно. И если бы не Петр Маркович Егидес с его импульсивностью… В 1978-м году встретились люди, интеллектуально и характером предрасположенные к Компромиссу, открытые этой идее – с людьми, озабоченными более проектом общедиссидентского журнала и единством Движения, но не имеющими прямого отношения к Компромиссу. «Поиски» оказались местом встречной инфильтрации этих несовместимых, кажется, проектов, и даже колыбелью утопии Компромисса – но органом этой утопии журнал стать не мог, это его разрушало. И.: … В общем-то, здесь сыграла решающую роль готовность издавать журнал. И это двинуло Абрамкина… П.: Тогда происходили и более парадоксальные вещи. – Если ты помнишь, я с 1972-го года отпихивался от Движения, писал «Почему я не диссидент» и т.п. Зато «Поиски» для меня стали способом покончить с сомнениями и сделать выбор, прямо шагнуть в Движение. – Но притом же я был полон ересей, и не хотел держать язык за зубами. Уже в момент сборки первого номера я, буквально в последнюю минуту, вставил внутрь его «Приглашение» - относившееся к совершенно другому, годичной давности проекту международного журнала интеллектуалов, и написанное Гефтером. – Выглядело это так, показываю: такое пойдет, ребята? – Да, вроде…лепи! По ходу перепечатки подсократил, кое-что отредактировал… И.: Патриархальные нравы! Гефтер мне сильно жаловался на это… П.: Да, но в то же самое время «Поиски» – мой страстный роман с диссидентством, в его самой разудалой форме, поприще для работы на него. – Я, конечно, искал это место, но забавно, что нашел его в издании… журнала взаимопонимания! Думаю, что противоречивым было и положение других редакторов. … А проблема Компромисса возникла куда позднее. Сперва – ситуационно, при обстоятельствах самопрекращения «Поисков» после ареста Валеры. Ситуация нуждалась в концепции, поиски концепции отразились в составе последнего, восьмого, номера «Поисков», собранного уже практически мною одним вокруг вопроса о Компромиссе… Туда попали и все предарестные блестящие работы Сокирко на эту тему, и статья Гефтера «Накануне»… но этот номер практически не получил распространения. Так что трудно сказать, что «Поиски» – это крах Компромисса, они так и не воспринимались, для тогдашнего читателя это было скорее: диссиденты, вперед! И.: Так это и воспринималось. – А итог? Итог тот, что слово «компромисс» стало не только ругательством, но и просто насмешкой! П.: Да при чем тут «Поиски»? – Никто ни тогда, ни сейчас не связывает с «Поисками» мысль о Компромиссе. Ты навязываешь ее покойному журналу – я и сам прежде пробовал навязать, да не навязалось! Кстати, имей в виду: когда говорят «Поиски», имеют в виду не журнал, а только суды над нами. Вот суды по «Поискам» – это реальность, а содержание журнала – это уже не реально. И.: Да… вся макулатура Движения перестала быть реальностью. Реально только поведение тех, кого судили. – Может быть, мое восприятие субъективно. Но когда я обсуждал «Поиски», в моей речи подспудно и явно, всегда звучала идея Компромисса. – Я помню эти разговоры, как сейчас! П.: Увы, это осталось фактом твоей биографии. У тебя есть некая священная история того, что «было», как бы личный миф. И у каждого он есть. У меня тоже есть такая мифологическая память, где я неизменно в центре всех событий… Как я старался делать «Поиски»? Я старался дать в журнале, с одной стороны как бы химические чистые, крайние образцы диссидентского максимализма («диссидухи», как тогда уж поговаривали), с другой – наиболее скандальные, скабрезные случаи критики диссидентства и вообще всякого «еретичества» в Движении. – Мои собственные статьи тех лет, замечу, довольно странная смесь того и другого, «диссидухи» со скепсисом… - Я мыслил крайностями, и журнал ощутимо сдвигал к ошибке пределов. С Валерой, поэтому, мне было легко работать. И.: А кто были критики? «скабрезное» было не слишком ярким. П.: Ну, крайностей старики не любили и сильно ехали – приходилось полагаться исключительно на «обычное» право соредактора помещать свои работы. Поэтому представителями ересей неизменно оказывались Сокирко и я; отчасти Гефтер и Померанц, которым не решались перечить из уважения к их уму и личности… Были небольшие материалы случайных авторов… поразительные записки Гелия Снегирева, которые, представь себе, тогда принимались за «разоблачение КГБ» - и только потому были напечатаны… А иногда приходилось самому высасывать из пальца: так, в отчаяньи от либеральных штампов, я однажды придумал «национал-большевика Н.Понырева» и написал от его имени статью в дискуссию о классике…
3.
И.: Ладно, моя проблематика тебе ясна. Что нас объединяет сейчас? Какова ситуация у тебя?
П.: В период близости к активному диссидентству, когда я видел в нем возможность работы, полноценной жизни, участия в общей жизни страны – это была Утопия, Утопия рухнувшая. Как только она рухнула, а это можно датировать 1980м годом – я оказался, по словам Вити Томачинского, «в глубокой жопе»… И.: …Собственно, мы все оказались в этом самом… глубоком месте…. Потому что для каждого из нас это Движение, и надежда, и гибель ее – братская могила всех наших идей! П.: Я впервые испытал весь этот кошмар в конце года после процессов, - после этого тягостного и для меня выходя Вити Сокирко из Бутырок. …Тот идиотский кирпич в окно, где судили Абрамкина: запустив им, я впервые за много лет сильно испугался. Я испугался ареста, а больше всего, что в случае ареста из меня сейчас – тогда, в конце 1980-го – можно было вить веревки. Лежа под стеной Мосгорсуда, со сломанной ногой, я перебрал в себе все, чем я внутренне располагал всего год спустя после «Поисков»: оказывается, я не располагал уже ничем, ничем. Движение – было мое «все», и его распад, слепота, выезды, дрязги – а тут еще этот камень, делавший из меня пародию на террориста… психология раздавленного, уничтожаемого, лишенного Утопии, надежды… превращали меня в подонка. По ту сторону Утопии никакого личного достоинства для меня не существовало. – И восстановление его, восстановление личности, вообще способности мыслить началось в 1981-м году поворотом к другой Утопии… И.: …к Печчеи? П.: Да… к проекту «Движение-Государство», к идее «явочного сотрудничества» с государством, обосновываемого глобальными проблемами: выходом на мировой уровень, к геополитике… Так или иначе, я вновь почувствовал, что могу действовать, не унижая свой мозг и не обманывая государство. И тут же начал его обманывать. Но это было результатом ряда ошибок, за которые ответственность несет не концепция, а я. И.: Ты думаешь – ошибок? Я бы сказал – некоторых характерологических черт… П.: Думаю, не только это. – Соединить то, что я пытался соединить, можно было только путем мистификаций. При тех обстоятельствах надвигающегося конца, при нежелании ничего видеть и никого слышать, - в Движении должен был появиться интриган, и он появился. «Интрига выбрала меня». Но доинтриговать мне не дали. Неудивительно, что в Бутырках все это стало дымом, и я потерял всякий интерес к своим бесчисленным проектам и начинаниям 1981-82-го. Они в моих глазах дискредитировали все это направление моих мыслей, побуждали отвернуться, и не доводить Утопию до позиции. – Это окончилось полным разоружением и какой-то придурковатостью в Люблино. В последнее время я испытывал сильнейшую потребность освободиться, отделить себя от всех моих политических затей 1980-82гг…. И.: И ты можешь сделать это не в порядке какой-то новой интриги?.. П.: Да, да, я именно об этом… И.: …в сознании того, что все это было действительно ошибочным? И существует внутренняя потребность отказаться? П.: Да, от цепи совершенно конкретных предприятий, очень разного уровня исполнения, - начиная нелегальным изданием №8 «Поисков» после уже объявленного их прекращения, и кончая придурью в Люблино. Я не делаю этого в форме публичного заявления по той единственной причине, что сейчас такие заявления не более чем смешны. Отсутствует… И.: …аудитория? П.: Отсутствует «публика», и общий язык. И.: Кроме того, само публичное заявление в таких условиях есть вид интриги – не для кого-то, а для тебя. П.: Отказываясь от несостоятельного синтеза прагматики и Утопии, я совершаю для себя санитарно-гигиенический акт. Отказ открывает для меня два возможные поприща, два направления, которыми я не могу не следовать – но которые сегодня абсолютно несоединимы. Несоединимость – главное открытие, я за него заплатил крахом в Люблино. …Раз уж ты ввел в наш разговор иероглиф Утопии, назову эти направления так: Утопия и Социализация. Первое для меня сегодня важнее всего, и здесь центральный опыт – пережитое мной крушение. Люблино для меня не прочерк. Здесь я узнал кое-что поинтереснее, чем из Печчеи. – Глобалистский прагматизм предарестного года висел в пустоте, которую я наполнял эрзацами, подштопывая диссидентство своими проектами. Встала другая проблема: как вести себя в условиях, где всякое личное поведение бессмысленно? – Но давай лучше поговорим о практической стороне, она проще… Здесь будто бы все ясно. Я нахожусь в ссылке и должен содержать семью, работать… всякий раз находя какие-то реальные, терпимые и для меня, и для властей решения… И.: Ты хочешь сказать, что у тебя не существует устойчивой ситуации, устойчивого положения?.. П.: Нет подходов к социализации, и нет никаких видов на социализацию в качестве себя самого. И.: …Но как же… П.: Постой, это для меня серьезный вопрос. Я вижу, что в настоящий момент я, каков есть – со своими прошлым, с открытым для меня опытом, со своей судьбой – безусловно не могу быть социализирован. И.: …В ссылке? Ты это имеешь в виду? П.: И в ссылке, и не в ссылке. – А если меня завтра выпустят, что изменится? И.: Ты хочешь сказать, что мой путь социализации для тебя… П.: Неприемлем. – Да. Безусловно. И.: Объясни… П.:… И это приведет нас к первому из несвязуемых условий задачи, я с него начал, но его труднее всего объяснить. Сегодня я консерватор, если есть такие. – Я охранитель. Вокруг я нахожу разгул частного, группового и государственного нигилизма. Главной же опыт нигилизма я открыл в себе в Бутырках и Люблино: имея в виду мою крайне нигилистическую выходку с признанием вины. – Это было попрание всего объективного, как личного так и общего – кстати, идеи Компромисса тож. Я вел себя так, будто для меня ничто не обязательно, в том числе и собственная судьба до того. В этом смысле поведение в Люблино равнозначно камню в окно Мосгорсуда, что на Каланчевеке! … Ведь я ни виновным, ни невиновным себя считать не мог. Что было бы правдой в 1982 году? – Да, нахожу себя виновным и грешным, только виниться мне не перед кем: это и следовало бы попытаться обосновать, да я не пытался… Почему? Почему я не смог быть честным? Это личное, конечно. Но сегодня оно мне «мешает праветь», как я Вите сказал. Люблино мешает мне социализировать себя. Стремление быть честным уводит меня сразу от обоих «лагерей»… И.: Но почему ты не можешь быть социализирован на мой манер? В чем здесь разница? Почему ты отвергаешь для себя возможность социализации сейчас, и что это означает..? П.: Я –то не отвергаю. Я не только не отвергаю, я ищу и хочу ее. Но я не вижу для себя входа. Твой путь… это как бы путь отсроченной Утопии, откладывание личности – на будущее… И.: …То есть, мой путь – это потеря темпа..? – Это безусловно. П.: Потеря темпа… это все-таки симптом. Пахнет интригой. Вот в чем дело, Вячек, - снова пахнет интригой: вот устроимся – а потом. И.: Ничего подобного. Само устроительство есть действие! Я, так же как и ты, в какой-то момент были противопоставлены государствую – Даже не столько сами мы себя противопоставляли (хотя иные действия – твои, мои, – были таковы), а государство нас, довольно искусственно, противопоставляло себе. Так или не так, - задача состоит в слиянии. Не может ли быть это слияние скачкообразным?! У тебя не было выработанной концепции сосуществования с государством, положим, у меня она была. Но – может ли государство доверять мне? … Я говорю о Компромиссе – но и «Поиски» говорили о компромиссе! …»Поиски» делали то-то и то-то – наверное, то же стану делать и я? Потому вся моя деятельность по социализации состояла в том, чтобы шаг за шагом показать мою корректность принятие мною правил игры… Не «устраиваться, а там действовать», путь моей социализации – это путь опыта, путь для других. П.: …Сокирко номер Два! И.: Возможно. – Или… П.: Хорошо, - ты – Первый! – А Витя, тот – номер Два!! И.: Нет, в принципе - я с Сокирко согласен… П.: Идея вот эта общая у вас: мой личный опыт есть универсальный путь. И.: Да, да: я не согласен только с тем, как он это делает. – А идея такова же… Когда меня арестовали, я по тем временам занял максимально экстремистскую позицию: т.е. вообще отказался с ними разговаривать и участвовать в следствии… То есть, не то чтобы «я отказываюсь давать показания на таком-то основании», а – к чертовой матери все разговоры, все это незаконно – я с вами не разговариваю! Мы можем поговорить о чае, да и то - не здесь!! Это была задача номер раз: доказать диссидентам, что идея Компромисса с государством не является продажной идеей, что я не ищу здесь личной выгоды и это не означает предательства. Для меня пройти через предстоявший процесс, безразлично, чем он закончится, пусть «семь плюс пять», пусть психушкой… но я должен был его выдержать максимально. П.: В этом случае – да, безусловно… Ты как бы обязан… это сделать. И.: …И с этим соседствовала другая идея: доказать государству, что занимая такую, достаточно категоричную позицию, я не становлюсь во враждебное отношение к нему, - что будучи тверд, я тем не менее принимаю «правила игры». – Если я беру обязательства – я их выдерживаю и перед Движением, и перед государством! Никаких раскаяний не может быть – тем более, публичных. – Я стал на такой путь? Я взял какие-то обязательства? Все. … То же перед государством: я не подписываю никаких заявлений в КГБ о том, что я не стану публиковаться на Западе. Но в беседе с «товарищем» из КГБ я говорю, что не считаю для себя возможными такие публикации. – Это уже обязательство перед государством! И я ни в коем случае не могу это нарушить… П.: В таком случае непонятен отказ «подписывать». Это имеет какой-то деловой смысл или принципиальный? И.: Конечно, практический. Здесь же у меня сложная ситуация, ты пойми… Я хочу быть одинаково обязателен как для государства, так и для диссидентов… корректен с теми и с теми… … Так что, моя личная судьба, это не «устроимся, а там поглядим»: нет, это тоже поиск практических путей. Это тоже тыканье рылом в неизвестное. Это путь поиска, и достаточно, так сказать, слепого поиска. – Например, устройство на завод было для меня практической ошибкой. Меня об этом, кстати, диссиденты предупреждали, что я слишком разочаруюсь… но ничего другого никто не мог предложить, и все приходили к тому, что пробовать надо. Зато сегодня мой стартовый уровень – если сравнить с тем, что было полтора года назад – несравненно выше, и в то же время, я обсуждаю с кем хочу, лично в переписке, как вот с тобой – все, что меня интересует, остаюсь самим собой – и мне никто не мешает, не преследует. П.: …И прекрасно, я очень рад за тебя. И.: …В то же время, как раньше я не мог ни работать, ни учиться. Какая-то предварительная стадия Компромисса, для себя лично, достигнута. Я не исключаю, что моя личная жизнь – и твоя, и Сокирко - тщательно изучается, и на основании этого принимаются меры к разложению Движения… То есть, наш опыт - это опыт и поощрения таких, «декадентских» настроений в Движении. В то же время, мой частный опыт становится достоянием государства, как социально-значимый образец. П.: Если кто-то хочет упасть, это его личный грех. Никакой пример не может иметь разлагающей силы, независимой от воли человека. И.: Дело в том, что государство, как я понимаю, делает в первую очередь именно такую попытку использовать наше поведение. А потом уже – что для нас такое существование допустимо… П.: А тебе не кажется, что это может оказаться фатально для… И.: … Для Движения? П.: Нет. Это не может оказаться фатально для Движения в рамках твоей концепции «личная судьба как образец»… И.: Здесь, кстати, мы с Сокирко близки… П.: Но это гибельно для тех, наиболее глубоких измерений ситуации, которые ты же сам назвал Утопией…. Так сказать, для «утопического компонента» твоей деятельности…. И.: Думаю, что нет. П.: …Что это мистификация на историческом уровне… самообман… И.: Нет. – Возьми аналогию столетней давности. Меня можно аналогизировать с либералами того[18] времени, супротив народников, революционеров. – Сталкиваясь с такими, как я, государство как бы примиряется с существованием «мягкого» крыла оппозиции. В нашей пробе, в нашем варианте она тоже существует, эта параллель. Я думаю, что это играет какую-то роль и для Утопии, ведь в свое время либерализм сыграл значительную роль в эволюции России… Если для массы людей позиция свободы как противопоказания невозможна, то в либеральной трактовке… она может объединить значительное количество людей… П.: …Для чего, собственно говоря? И.: …Понимаешь, государственный прагматизм должен вести к тому, чтобы мысли этих людей использовались. – Я уверен, что это возможно. Вот я, например: чего бы я хотел? Скажем, организовать лабораторию экономической оптимизации… П.: Этакая небольшая, частная лаборатория… И.: Зачем частная? При Институте народного хозяйства. П.: А-а… таких по Союзу лабораторий – как собак нерезаных… И.: Но при заведомом знании, что я – диссидент…. В прошлом… или там в настоящем… то есть, что я не вполне «такой». – Далее, я сам себе набираю штат… П.: В таком случае, твоя лаборатория – при КГБ. И.: Ну… П.: Вячек, называй вещи своими именами. – Такая лаборатория, как ты хочешь… И.: …Ну пусть при КГБ. – В качестве диссидента… П.: В качестве диссидента, только при КГБ? И.: …Только при КГБ. Да, но при этом с сохранением своего собственного лица… И, конечно, формально это будет не при КГБ: при институте… П.: …Понятно, понятно. И.: Пусть – закрытая лаборатория. С экспериментальной базой - пара колхозов… П.: Боюсь, это уже скатывание к интриге… И.: Это не интрига. Любой какой-нибудь Бирман, прокатывая свою идею экономической реформы, имел себе плацдарм для экспериментов. Я тоже просчитываю какие-то элементы реформы, и тоже должен иметь плацдарм. П.: …Интересно, чувствуешь ли ты здесь, говоря об этих вопросах, очень тонкую грань…. Или даже не грань, а мембрану между собой – и теми, кого Сокирко обычно называет «либералами-западниками»: людьми наподобие Бирмана, Аганбегяна… Т.е. либералами, работающими в системе, не испытывая нужды как-то дополнительно самовыражаться, не говоря уж о какой бы то ни было прикосновенности к Движению..? И.: …То есть, они не испытывают потребности в независимой мысли? Они независимы сами по себе… а для меня необходима коллективная независимость. П.: Хорошо, спрошу по-другому. Тот факт, что до сих пор ты принадлежишь к Движению – просто биографическое обстоятельство, которое ты обмениваешь на какие-то новые возможности? Не изменяя принципам, идеалам и целям – оставаясь самим собой – и тем не менее… прошлое ты обмениваешь на статус в государстве?.. И.: Не «обмениваю на статус» - я им обуславливаю статус. П.: …А почему ты против термина «обмен»? он точнее. Ведь не будь у тебя такого вот, крамольного прошлого, был бы ты «персоной»? Мог бы ты помышлять о «паре колхозов», рассчитывать на независимый статус?.. И.: …То есть, не будь у меня этого прошлого, я не мог бы добиться и этого статуса? Правильно! П.: Не будь у тебя рубля, ты не купил бы товара. И.: Да, но рубль я отдаю, а своего прошлого я не отдаю. Я оставляю его за собой. П.: Опять-таки, я не говорю про измену – но про обмен. Меня крайне заинтересовал этот способ: получить ничего не отдавая. В чем секрет твоего «прошлого-мембраны» - через которую ты проникаешь в систему, становишься одним из «них»… делая при этом встречное движение невозможным, закрывая путь «сверху вниз»… И.: Я принимаю твой пример, но… Между мной и «ими» нет мембраны. Я есть мембрана между ними и диссидентами. П.: …А тут всегда была форточка, или даже окно. – «Они» почитывали самиздат, а Движение вспоминало о «них», когда надо было указать на позитивные тенденции» системы… И.: …Окно это не фильтр, это канал: передача туда-сюда… а я говорю именно о фильтре. Я хочу быть фильтром, пропускающим только идеи… В общем, как не называй – этот механизм работоспособен. Утопия – то, ради чего работа ведется, а этот механизм работает. Хотя и он в определенном смысле «утопия», т.к. технические моменты для нас тоже утопичны… Попробуй, реализуй – чем не утопия? …Попробуй реализовать!! П.: В таком смысле достроить твое жилье – тоже утопия… И.: Без всяких сомнений! Утопия технического плана… Что касается большой Утопии… Большая Утопия в черновиках у меня есть – это то, что я называю Большой Компромисс. Он предполагает изменение фундаментальных основ нашей цивилизации как таковой. У меня эта Утопия есть. П.: Фиксирую твое утверждение: она в тебе есть… В тебе присутствует эта идея… И.: …Да, правильно. П.: …а делаешь ты то-то и то-то: вот, достраиваешь дом, готовишься восстановиться в институте… И.: Утопия это проект, это черновик. Мало того, что его надо прорисовать, его необходимо и реализовать. Вот для прорисовки и для реализации этой Утопии необходим технический механизм, которого нет и я даже не знаю, как к нему подступиться. П.: Ты меня заверяешь, что вот эти твои действия находятся в связи с такой-то Утопией… но соединяются эти два плана только твоим заверением, больше ничем. А ведь весь вопрос и заключается в том, что наши поступки могут обосновываться и так, и иначе, и как угодно. И.: Не вычитай из этого фактор моего существования: я – живу, и я же – работаю, действую. Я сразу и тот, и другой… П.: Ну и это тоже смахивает на заверение, Вячек. – Кстати, ты помнишь, конечно, про такой социальный типаж рубежа 60х-70х – «новомировской эпохи»: либералы (тогда это слово означало человека, неизменно вычеркиваемого из списков на подачки и привилегии всякого рода) – то есть как бы даже «лишенцы», которые вдруг шли в систему, чтобы «работать в ней!. Это не обязательно смешные и не подлые люди, хотя всегда с идеей «проникнуть»: проникнуть в ЦК, проникнуть в Комитет… И проникали, и «вносили свежий дух»… я такого раз встретил среди следователей… - У них ведь тоже была Утопия. И.: Я могу привести еще пример: в 1966м году одна из наших девочек пошла на работу в КГБ. Могу тебе сказать, что она стала там благополучным сотрудником, и на хорошем счету. – Речь идет совершенно о другом! П.: Где гарантии, Вячек? «Плоть слаба…» И.: Читай мои статьи, читай мои письма, суди мои поступки..! Я не понимаю логики твоих возражений!! П.: Я уточняя для себя. Мне хочется кое-что узнать о тебе и о себе.
4.
И.: …Мы вышли на такую вещь. Мне ясно видится общая идея Утопии, конечные цели и стремления моей персоны… и, как я полагаю, всего Мира. – Это глобальная Утопия. На пути к ней – набор препятствий. Первое. Утопия может реализоваться только как глобальная Утопия – а Мир не готов к ней в любом его месте. Второе. Отсутствие времени. Времени – нет! Реализация Большой Утопии это и есть предотвращение всеобщей катастрофы: катастрофы цивилизации, катастрофы вида Гомо Сапиенс. Третье препятствие: отсутствие инструментальных механизмов для реализации этой Утопии, даже подходов к ней – никаких… Но сейчас меня интересует Утопия в другом смысле: вот я – живущий человек, я как элемент этой большой Утопии, я как ее рабочий механизм… я, ты, группа людей, общество… - Вот о какой Утопии я говорю: об инструментальной Утопии Компромисса, о том, какое место мы можем занимать в будущем человечества. Будущее – это и есть Утопия, это понятно. Моя Утопия – Утопия реализации, утопия исторического бытия меня, тебя и т.д.… вот какой вопрос я тебе задаю, вот чем по сути дела я занят. …Потому что подступиться к большой Утопии я не могу, здесь нужны объединенные усилия очень многих людей, громадный потенциал. Одному реализовать это невозможно. П.: Надо полагать, это вопрос ко мне? Мне так неловко. У нас с тобой, после короткого, заочного и почти платонического романа в письмах (81-82гг) возникло новое расхождение… расхождение в позитивном смысле слова, потому что личного отталкивания, недоверия к тебе у меня нет… - Но есть новые несхожести – слушая тебя, я их ощущаю. Ты, вот, хотел бы ввести наши провинциальные делишки в глобальный контекст… В 1981 году и мне казалось это возможным, доступным для прямых начальных усилий, для немедленного старта… Для проекта, который из личного разовьется в общий для некоторых лиц. Я испытал, и сегодня знаю, что это была вообще не Утопия, а простоя иллюзия, - с моей стороны, конечно. Сегодня я нахожу в себе рассогласованность движений – не только между мыслью и поступком, но внутри мысли, внутри поступков – и это препятствует согласованию проектов с другими. И то же я замечаю в тебе, в Вите Сокирко… Но Витя, кажется, это рассогласование от себя скрывает постулатом «универсальности» своего, совершенно исключительного случая. Глобальная проблематика, Утопия говорит сегодня на одном языке, прагматика на другом – а обе они равно насущны, обе жгутся, обе толкают под локоть, и нельзя сказать, что мы всегда вполне за себя отвечаем. Мне мнится, что и ты скрываешь эту рассогласованность, или ее не примечаешь. Ты говоришь то языком Утопии, то языком прожектов. А перевода с одного на другой нет. Я его не знаю. И.: Я вижу эту большую Утопию, Большой Компромисс, как я называю ее довольно часто… И в силу этого я персона мирового значения. – Понятно?.. и уже этим сопрягается мое бытие и путь к Утопии. Мое существование в России – это и есть путь к Компромиссу. П.: Наши несходства вообще на базе известного совпадения. Я тоже «мессианская» штучка, но у меня это иначе выглядит. Конец диссидентства для меня – конец отсрочки осознания того, что я здесь назвал «нигилизмом»: т.е. ситуации, созданной обвалом двух историй России – имперской и советской – за один век. Для меня се это не пустая фраза, а личное поражение, обращении великих начал в комедию. Я серьезно отношусь и к марксизму, и к тому, что он ниспроверг, и к тому, что против него восстало – а сегодня мы движемся в плоскости общего вырождения. Для меня это означает реальную невозможность мыслить и жить. И.: Я понимаю. Но ты живешь – в истории России. Я себя чувствую – живущим в истории Мира. П.: Мир для меня дан в российской оптике, и иначе и быть не может дан в принципе, иначе – его нет. И.: Я чувствую свою связь с фараоном или с Цинь Шихуанди, м.б. более кровно, чем с Рюриком. П.: Бог с ним, с Рюриком. Мне ближе вторая история России, история советская, потому что ее конец пришелся мне по лбу. И.: Конец – это пока еще гипотеза… П.: …Для тебя. – Ну событиям е конец. Я говорю о конце того мифа, в рамках которого работали неплохие головы. Движение – тоже реакция на этот конец, на этом я с ними сошелся… Два национальных крушение за один век фокусируются для меня в персональной точке конца Движения и личного поражения позапрошлого года. И тут для меня настает самое интересное, место, где должна быть Утопия – а ее нет. Пустое пространство большой Утопии, ничем не замещенной, а внутри человек, на котором прекращаются все традиции. – Этим я впервые поравнен со всяким советским человеком. Я пуст, как пуст всякий, и тем не менее обязан действовать. Отсюда постоянный соблазн интриги, соблазн лганья, соблазн действия наобум – и обосновывания этих действий с помощью произвольной манипуляции ценностями. Любыми. Это, в пределе, ведет к самым черным результатам, пахнет гибелью людей – вспомни «Боинг» - но я сам побывал в шкуре беспомощного злодея, и никого не могу осудить. Член Политбюро, если ему приходится действовать, попадает в ту же ситуацию, что и я: наши поступки лишены всяких неоспоримых оснований. Мы оба действуем нетрадиционно, а человек слаб, а соблазн всегда велик… Для меня это наша общая проблема, равняющая всех в России. Где-то даже я назвал такую общность братством. И.: …По Орвэллу, что ли, братством? П.: Как тебе будет угодно. И трудно сказать, кто из братьев старший, может быть – я… И.: Братство Смита и О’Брайена… П.: Именно так: братство Смита и О’Брайена – по состоянию в глубокой жопе на 1984-й год. …Неделю назад я разговаривал с Витей Сокирко, и то же он – мне: ну ладно, пуская мы потерпели поражение, но мы вышли из Движения – и не будем спорить из-за подробностей! – Давай думать, как нам быть дальше!.. Я не желаю говорить ни о каком «дальше», пока мы не поняли, где мы теперь, не осознали эту свою точку. И можем ли мы ее осознать сейчас? – Осознать так, чтобы это стало не только фактом биографии, а фактом национальной общности?.. Возможность восстановления образа мыслей, русской речи, сегодня отсутствующей (я подозреваю, сегодня не существует живого русского языка) состоит в продумывании и про-живании этой вот ситуации безопорности… И.: …Короче говоря, мы с тобой сосредоточены на разных проблемах. Ты – на безопорности человека, я – на крушении Мира. П.: Я не вижу здесь двух проблем. И.: Вряд и можно сказать, что традиционный житель Запада «безопорен» так же, как и мы. Но перед проблемой крушения Мира стоит одинаково что он, что я. П.: Оказываясь в реальной ситуации, человек не всегда открыто стоит перед лицом проблем, которые ситуация диктует. Один открыт, другой не открыт, хотя гибнут – оба. И.: И тем не менее, угроза висит над ними всеми. Ты – безопорен, а какой-нибудь Джимми Картер, или, более того, товарищ Рейган – вполне опорны! Это не универсальная проблематика. П.: Универсальной проблематикой является истина. Иначе большим художником будем считать того, кто пишет большие полотна, великих персон и исторические баталии. И.: Проблема, которой я занимаюсь, такова, что от нее не уйти никуда, в какой бы точке земного шара, в какой бы точке времени мы не находились. – Она всеобща: гибель Мира, подготовленная нашими повседневными усилиями, грядет. П.: Я убежден в этом с семнадцати лет. И что? И.: Господом Богом мы приведены в этот свет, и мы не вправе решать за своих детей: быть им или не быть. – Безусловно: быть. Не нами жизнь дадена, не нами она и отнимется. И если мы своей деятельностью эту гибель приближаем, мы должны эту деятельность пересматривать таким образом, чтобы этого не делать. Вот вся моя проблематика. Частная жизнь – вся! – растворяется в этой проблеме. Нет у меня частной жизни! – Да, есть и любовь, и работа, дети – все растворяется без остатка в основной и главной проблеме. Нашим детям эта жизнь дарована в той же мере, в какой она дарована нам. И наш долг – долг по рождению, по бытию – предотвратить катастрофу. – Вопрос об опорности, безопорности человека существенен, но… П.: Так, как мы теперь действуем, с такими смещениями мотивов, смысла… на языке, на котором мы теперь говорим с другими, с собой не только нельзя толком поставить, а даже назвать эту проблематику правильно – нельзя. Вот моя загвоздка. И.: Я – назвал свою проблематику. П.: Ты не назвал. Это пустое трясение воздуха. И.: Ничего не знаю. Я говорю: гибель человечества возможна… П.: …В частности, из-за того, что человечество без толку говорит о близкой гибели. И.: Возможно. Вопрос все же в том, как ее избежать, а не в том, как говорить об этом. П.: Мы теперь не можем утверждать, какой вид примет катастрофа, хотя она и близка. Мы не подготовлены к ее глубине, наш язык к ней не готов. Конец Мира может иметь форму запутывания в попытках его избежать. И.: …Не надо Глеб, я этого не понимаю. П.: …И то же самое говорит мне Комитет: не надо, Павловский, все это бредни, оставьте… давайте будем про это! Все это виды самооглушения и ментальной репрессии. И.: Давай лучше без резкостей. «Нет языка, будем работать над языком…» - искусственная работа над языком неосуществима! Язык формирует жизнь. Жизнь формирует такие простые вопросы, как: гибель возможна… Выдумать новый язык для формулировки проблемы нельзя! П.: Нельзя. – Как вот я его выдумывал в 81-82 гг., а теперь это делаешь ты. И.: Надо решать задачи, а в результате решения формируется язык. П.: Вячек, разве человек виноват, приобретая некий опыт? Мой маленький частный опыт последних лет подытожил более общий опыт моих взаимоотношений с Родиной, Советской Россией – от детства до суда в Люблино. Я увидел некоторую произвольность в суждениях о Мире, о глобальных и политических проблемах, допускавшуюся мной и допускавшуюся другими… Одних она приводит к достойным вариантам поражения, других к недостойным, третьих ведет в палачи. Но с моей точки зрения, в глубокой жопе равно сидят теперь все: от людей достойных и нравственно чистых, до таких, как я. И.: …Покажи! В чем, например, бессмысленность Римского клуба? Печчеи?.. покажи конкретно! П.: а есть ли смысл критиковать такие далекие от нас организации? Печчеи все же существует не в СССР. И.: Это не имеет никакого значения! – Проблема, стоящая перед Печчеи, даже если он живет в Милане, и проблема, стоящая передо мной, хотя я живу в Одессе – одна и та же. Мы одинаково ее понимаем и формулируем. П.: Совпадение ряда терминов ты называешь одинаковой формулировкой проблемы..? – Печчеи все ж не ты, он «центр своих утопий», он, например, никогда не был диссидентом. И.: Причем здесь диссиденты?? Какое это имеет значение??? – Мир рушится!!! Все: два слова. – Этого совпадения достаточно. Это – главное, все остальное – второстепенное. …Диссдент, недиссидент или участник сопротивления… - мир рушится[19]!!! П.: …В обстановке бесконечных истерик, которые ускоряют его крушение. И.: Неважно: мир – рушится? Да или нет? П.: Рушится, рушится… уже почти рухнул. И.: Значит, надо решать проблему? П.: Да, надо. И.: Все! – Давайте решать!.. П.: Вот какое дело. – Причина, из-за которой разные люди, занятые кто ловлей диссидентов, кто ловлей селедки, кто – противостоянием… посылают к черту Печчеи, и Римский клуб, и тебя и меня с нашими «утопиями» - причина эта в общности их и нас. Они на деле решают эту проблему, и для них она столь же глобальна, хотя называют ее они иначе… И.: … «Государственная безопасность»… «маленькая зарплата»… П.: Да, да, да. И такое тоже. По-видимому, эта маленькая зарплата имеет какое-то отношение к концу света, как и деятельность Римского клуба. И.: Совершено верно. – Ну и что? Почему несостоятелен Римский клуб? П.: А я это утверждал? – Вот видишь, если даже мы не можем сопоставить наших проблем в отсутствие общего языка, как мы предложим их тем, кто вообще не умеет «иметь проблемы»? На месте невозможности вести диалог – пустота, в пустоте веет суетливостью. А сделай свою нищету откровенной – и она станет ядрышком, вокруг которого нарастет новая речь, сможет состояться и новая Утопия… - У нас вот нет никакой возможности договориться. И заметь, эта невозможность тем сильней, чем ближе мы к главному для каждого из нас… И.: …Ничего подобного! П.: Давай почаще приговаривать «ничего подобного», и скоро мы окажемся в такой дрянной компании, как ООН. И.: Совершенно верно. Но ты же сам сразу начинаешь с оценок! П.: …Да я потому и могу сотрудничать с любой организацией, даже самой скверной, что у меня с ними нет ничего общего – кроме общей утраты цели в ходе крушения Утопии, общего отсутствия почвы – и общей невозможности без нее обойтись! – Вот что универсально, а твои всеобщие проекты на паях – иллюзия. Мы все беспомощны, мы все делим и никак не поделим свою всеобщую нищету… И.: … И это тоже оценка. – Где твои доказательства? Я предложил свою версию – а где твоя, Глеб? П.: Я уже несколько раз за эти два часа касался того, что считаю главным – и всякий раз приводил тебя в бешенство, сам не знаю чем. Разница между нами во много раз меньше наших разногласий, но до истинно различного мы так еще и не дошли. Почему ты полагаешь, что основные наши проблемы нам известны, и уже теперь могут быть названы? Откуда это известно? И.: Ниоткуда не известно. Но есть проблемы, которые могут быть названы. И некоторые из них настолько существенны, что обойти их нельзя. Я не утверждал, что могу назвать главные проблемы. Есть проблемы, которые нельзя обойти, их надо решать. И если решая, мы выйдем на проблемы, которые пока еще не названы – да… А предполагать о их существовании, и на этом основании не заниматься проблемами, которые нельзя обойти? Я не принимаю такой позиции! Я решаю то, чего нельзя обойти. Может быть, дальше откроется неизвестное… П.: …Но для меня оно уже открылось! Пусть я не могу его обозначить – но я не могу его и обойти! – Помилосердствуй, Вячек! И.: Это твой частный опыт. А есть опыт Мира – весь опыт Мира. Например, Вторая мировая война… П.: Некорректно! Это событие многоуровневое, у тебя нет монополии на него. Ты в сущности говоришь о ее значении для личного опыта. «Я – центр своих утопий», не так ли? И.: Я говорю о количестве ракет с той и другой стороны. П.: …Немного демагогии нам не повредит. Вячек, моя позиция куда слабее твоей. Я просто беспомощен перед тем, что мне открылось в последние два года: ей Богу, я не вру. Для меня обозначилась реальность, прежде призрачная, и я хотел бы говорить о ней с другими, так как она общая – и не могу. Вот откуда «проблема языка», а вовсе не хочу я придумывать язык, что за бредни… Ты вправе сказать: ну, и катись в свой Троицко-Печерск[20], и сиди там, отбывай, ищи язык… И.: …Ищи язык! П.: Условия для этого создает мне МВД… - Вот и Витя Сокирко о том же: ты рухнул, ты просто сломался, бедный, ну и лечи себя, глядишь – и придешь к какому ни есть завалящему «идеалу», тогда нам и напиши. Не мне судить, наверное, он вправе так на меня смотреть: но для меня это неинтересно, а немножко другое… Немножко совсем другое… Ведь моя послепоисковая беспомощность – и даже сломанность – отличается от нынешнего образа мыслей. Прежде всего, моей способностью сегодня твердо – и легко – говорить «нет». И еще способность слушать, вглядываться в других, ибо наши проблемы вправду универсальны, но как ты говоришь – их универсальность основана на том, что ничьих сил недостаточно, чтобы решить чью-либо проблему. И ты встаешь перед лицом нищеты сил когда, в твоем смысле слова, «досоциализируешься»: поступишь в институт… И.: … «Досоциализация» - это два метра земли! Не существует окончания, ты опять все перевираешь: моя социализация есть непрерывный, бесконечный процесс… П.: Это про жизнь ты говоришь, про судьбу, про путь?
И.: Поскольку я таков, как я – и не такой, как среда, с которой я вступаю в контакт, моя социализация заканчивается вместе с моей смертью. П.: Моя тоже, наверное. Кстати, нельзя ли посмотреть на смерть, как на разновидность социализации – если не самого человека, то жизненно важной для него проблематики?..
(Конец пленки) Примечания редактора сайта* Перепечатано с машинописной распечатки записи. [1] Об идее Компромисса «по Игрунову» см. раздел «Компромисс». [2] Самиздатский журнал «Поиски» – см. раздел на сайте "Поиски" и на сайте Антологии самиздата. [5] Имеется в виду Демократическое Движение – т.е. движение диссидентов в СССР. См. подробнее раздел Диссидентство. [6] Аурелио Печчеи – вице-президент итальянской компании «Фиат», основатель Римского клуба. Подробнее о нем и о Римском клубе см. книгу Печчеи «Человеческие качества». [7] Виктор Томачинский – несостоявшийся политэмигрант, друг Глеба Павловского. За попытки выехать из СССР был арестован и умер в тюрьме в 1982 году. [8] Имеется в виду так и не вышедший самиздатский журнал «Альманах-77», готовившийся Игруновым. Подробнее см. здесь. [10] Виктор Некипелов – видный диссидент, поэт, писатель, член Московской хельсинкской группы с 1977 года. [11] Имеется в виду правозащитный самиздатский бюллетень «Хроника текущих событий». [12] Например, самиздатский журнал украинских националистов «Украинский вiстник». [14] Петр Егидес – один из авторов «Поисков». [15] Татьяна Великанова, Татьяна Ходорович – ведущие деятели диссидентского движения. [16] Алик Гинзбург – известный диссидент, издавал в 1960 году неподцензурный журнал «Синтаксис». Подробнее о нем см. здесь. [18] столетней давности [19] См. также беседу с Игруновым весной 2004 года. По экологической проблематике см. подборку материалов в разделе «Экология». [20] Место, в котором Глеб Павловский отбывал ссылку после вынесенного ему приговора по делу «Поисков». Во время настоящего диалога он должен был находиться именно там, однако на короткое время нелегально приехал в Одессу. Уважаемые читатели! Мы просим вас найти пару минут и оставить ваш отзыв о прочитанном материале или о веб-проекте в целом на специальной страничке в ЖЖ. Там же вы сможете поучаствовать в дискуссии с другими посетителями. Мы будем очень благодарны за вашу помощь в развитии портала!
|
||||||||||||||||||